Перевод от Joanna
http://www.rp.pl/artykul/385457_Pols..._dorosnac.html
Польша должна, наконец, повзрослеть
Яцек Пшибыльски 31-10-2009
Rz: 17 сентября Барак Обама заявляет, что США не разместят элементы противоракетной системы в Польше и Чехии. Проходит несколько недель, а Белый Дом утверждает, что никогда не отказывался от противоракетной системы, а новая будет лучше. Как Вы понимаете все это замешательство?
Збигнев Бжезиньский: Ваше изложение событий не совсем точно, так как Соединенные Штаты, сообщая Польше о решении об отказе от строительства предыдущего проекта противоракетной обороны, сразу утверждали, что он будет заменен другим проектом. Добавили также, что если власти в Варшаве и далее заинтересованы сотрудничеством в этой области, то в Польше появятся элементы новой системы. Не совсем понимаю только, почему польской стороне потребовалось несколько недель, чтобы понять, что в вопросе «щита» принципиально ничего не изменилось.
Может быть, американцы ненадлежащим образом сообщили о своем решении?
Форма, в которой это было сделано, действительно, была бестактной. Факт, что забыли о годовщине 17 сентября, свидетельствует о бюрократическом беспорядке, так как, хотя сам президент не обязан помнить, почему именно этот день так важен для поляков, то для этого у него имеются ассистенты, которые должны были упомянуть ему об этом. Но подчеркиваю еще раз: суть изменения проекта противоракетной системы была четко представлена уже в моменте, когда американцы передавали Польше свое одностороннее решение по этому вопросу. Бить тревогу или впадать в отчаяние по этому поводу было совершенно ни к чему.
Хорошо, однако, случилось, что ослабла заметная раньше тенденция к подчеркиванию, что противоракетная система усилит оборонные возможности Польши в отношении России. Американцы никогда не исходили и не исходят из такой цели этой системы. Зато косвенные последствия новой системы идентичны: будет иметь место, в определенной степени, военное присутствие Соединенных Штатов в Польше, а польско-американские отношения остаются на том же уровне, на котором они были бы в случае реализации предыдущего проекта системы.
Даже Вы в сентябре говорили, что Белый Дом постарается подсластить полякам горечь, связанную с этим решением.
Так как я уже в то время знал о планируемом визите вице-президента в Польшу.
Т.е. слова Джозефа Байдена, который подчеркивал, что „Польша – чемпион среди сопредельных государств и образец для всего мира”, были именно таким дипломатическим сластителем?
Да, это так. Я не переоценивал бы значение этого заявления, но так как очень заметно, что польской стороне страшно необходимы разные комплименты, то американцы – которым это ничего не стоит – решили произносить такие шаблонные фразы.
А кроме комплиментов, имеем ли мы шанс получить конкретную поддержку? Что может услышать министр Радослав Сикорски (министр иностранных дел Польши), который уже в понедельник прибывает в Вашингтон?
Не имею понятия, что он услышит. Американская сторона, однако, не чувствует себя обязанной предоставлять Польше специальные условия. Отношения между Варшавой и Вашингтоном нормальные и партнерские. Но американцы рационально подходят к существенным диспропорциям в потенциалах Польши и США. Они исходят также из того, что, если польскому правительству легче проглотить этот факт, получая далеко идущие комплименты, то пожалуйста.
Политика это, однако, исключительно сложное дело, в котором черно-белые упрощения – основанные на опасениях – не должны быть исходным пунктом для серьезных переговоров. Во время визита Джозефа Байдена в Центральной Европе меня поразило то, что он произнес только одну серьезную,с конкретным содержанием речь. В остальных случаях это были чрезвычайно спонтанные заявления, явно направленные на удовлетворение ожиданий принимающей стороны.
Польские политики все еще, например, рассчитывают на помощь в размещении в Польше значимой натовской установки. Часть комментаторв была также разочарована, когда оказалось, что США потратят 100 миллионов долларов на базы в Болгарии и Румынии, хотя Варшава уже много лет добивается присутствия подразделений США на польской земле.
Я бы посоветовал польской стороне немного успокоиться. У Польши имеется немалый потенциал, значительный в определенной части Европы. Она является членом НАТО и Европейского Союза. Имеет также, до определенного уровня, партнерские отношения с Америкой. Для польского подхода типично постоянное напрашивание на слова признания. Я еще с детских лет помню, как подчеркивалось, что американцы сказали, что Польша – это совесть мира.
Так как очень заметно, как страстно польская сторона жаждет разных похвал, то американцы – которым это ничего не стоит – решили высказывать такие похвалы.
Уже пора, чтобы Польша стала серьезным государством, а не жила, постоянно зависая между небом и адом. Небо – это когда Америка нас любит и считает ближайшим союзником, а ад – когда можно воскричать: снова нас предали, снова нас продали и т.д. Ведь именно такие заголовки появились недавно в некоторых польских газетах.
Поляки опасаются измены. Впрочем, профессор Ричард Пайпс и Ариель Коэн из Фонда Heritage утверждают, что американцы могут отказаться также и от нового проекта противоракетной системы. Это возможно?
Разумеется, что возможно. А если окажется, что система уже не нужна – так как, например удастся договориться с Ираном – будет ли Польша надавливать на США, чтобы они в обязательном порядке осуществили этот проект, потому что полякам необходимы эти ракеты, чтобы ощущать себя главным партнером Америки во все мире? Давайте будем серьезными. Ведь Польша тоже может передумать, а почему-то в Америке никто не дрожит от мысли, что поляки откажутся от этого проекта.
Нельзя удивляться опасениям, что Америка может пожертвовать проектом «щита» только потому, что потребует этого Россия, а Барак Обама больше заинтересован отношениями с Москвой, чем Центрально-Восточной Европой.
Предположим теоретически, что действительно русские были бы готовы сделать что-то, что очень важно для Америки, и взамен потребовали бы не размещать новые ракеты в Польше. Если бы Соединенные Штаты согласились на это, то было бы это изменой? Так могут считать только люди, которые вместо того, чтобы думать рационально, думают эмоционально.
Я не предвижу, что дойдет до такой ситуации. Но если бы дошло, то почему же Америка не должна пойти на такое соглашение. Надо осознавать, что иногда ситуация в международной политике в корне меняется, а ее сутью являются рациональные расчеты взаимных и противоположных интересов.
Разумеется, что русские хотели бы, чтобы на территории Польши не было никаких американских военных, но сейчас всё говорит о том, что они будут. Зачем же тогда сразу предугадывать, что что-то пойдет не так?
Вице-президент Джозеф Байден сказал в Румынии, что Соединенные Штаты считают концепцию сфер влияния проявлением XIX-вечного мышления и не согласятся с российской гегемонией на территории бывшего СССР. Вашингтон, однако, должен учитывать, что после войны в Грузии и завихрений в связи со «щитом», Москва сочтет, что Польша и другие страны Центрально-Восточной Европы снова находятся в ее сфере влияния. Поэтому, может быть это не только детские страхи?
Американцы не говорят о своих опасениях. Заявляют только, что не согласны с концепцией сфер влияния и будут далее развивать отношения с Грузией и Украиной. Независимо от мнения России.
Считаете ли Вы, что после войны в Грузии у русских может возникнуть желание добиваться распада Украины?
Наверняка они попытаються это сделать, если будут иметь такой шанс. Но какие выводы из этого мы должны сделать? Что надо разместить больше ракет в Польше?
А что с Польшей? Власти в Варшаве могут полагаться на американские гарантии безопасности?
У Польши нет полных американских гарантий безопасности. Польша – член НАТО, и этот союз, в том числе и Америка, гарантирует ей безопасность.
Но ведь польские власти подписали дополнительное соглашение с США при заключении договора о противоракетной системе.
Да. Но это документ, который нигде даже специально не был провозглашен. Он не является официальным обязательством, таким как одобренный Конгрессом североатлантический пакт, а просто серьезным подтверждением дружественного Польше подхода Соединенных Штатов.
В таком случае перейдем к вопросу невоенных угроз. Вы согласны с мнением, что в XXI веке танки заменяются нефтью и газом?
Считаю, что танки и сырье значительно отличаются друг от друга. Энергетический шантаж это не военное вторжение, которое несет за собой потери в людях. Однако, это очень серьезная форма давления.
Польские власти все еще не решили газовую проблему, а русские уже сейчас ставят строгие условия, требуя, в частности, у польской компании низкие ставки за транзит своего сырья. Не станет ли Москва, после завершения строительства северного газопровода, использовать энергетический шантаж намного чаще и более угрожающим способом, чем сейчас?
Это правдоподобно. Однако, мы знаем об этом риске уже несколько лет. Но Польша снова ограничивается ожиданием, что другие – в частности те страны, которые видят в проекте северного газопровода конкретную для себя выгоду – будут заботиться о польских интересах. Немцы сразу ведь предложили строить ответвление в Польшу, но власти в Варшаве отказались от этого предложения.
А должны были его принять?
– А почему нет?
Потому что рассчитывали на то, что им удастся заблокировать строительство северного газопровода.
Можно было принять это предложение и одновременно стараться заблокировать проект. Польские власти обязаны предпринимать предупредительные меры. И как можно раньше, а не тогда, когда этот газопровод будет практически готов.
Что, по Вашему мнению, может сделать польское правительство?
Я уже упоминал о предлагаемом немцами ответвлении. Польша может также развивать сотрудничество с Норвегией, но это и труднее, и дороже.
А если все-таки не получится остановить строительство северного газопровода, и русские решатся на энергетический шантаж по отношению к Польше, например лишая нашу страну поставок газа в течение всей зимы, то власти в Варшаве могут рассчитывать на помощь западных союзников?
Если в течение так многих лет не предпринимались конкретные предупредительные меры, то как можно требовать гарантии, что в случае чего могущественные друзья прийдут и помогут? Польское правительсто должно как можно быстрее начать действовать в рамках Европейского Союза, чтобы хотя бы какой-то мере снизить такой риск, и возможно воспользоваться доброжелательством западных союзников, особенно Германии.
Власти в Варшаве должны вести продуманную политику. А она не может основываться на постоянных ожиданиях, что другие страны помогут Польше решить вопросы, по которым Польша уже давно должна была занять последовательную позицию. И не имеется в виду позиция типа: „это мне не нравится”, „мы этого боимся”, а конкретные действия, предупреждающие данную опасность или, по крайней мере, уменьшающие угрозу. А об этом почти не слышно. Зато постоянно говорится о том, что другие должны сделать для Польши.
Вы хотите сказать, что польские государственные интересы не существуют?
Я не хочу истолковывать это таким образом. Просто не хватает серьезного подхода ко многим проблемам.
Профессор Збигнев Бжезиньский является политологом, советологом, бывшим советником по безопасности при президенте США Джимми Картере.
Rzeczpospolita




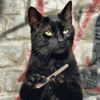

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием





















