Całe Łapy siedzą głodne
Все Лапы сидят голодные
КОММЕНТАРИИ
Theradicant
- Что за идиотская, а прежде всего несправедливая и не соответствующая правде статья. Но через минуту всё стало ясно. В конце концов, за несколько лет можно привыкнуть к невежеству, стилю типа «Факта» (таблоид – прим. перев.) («А о неприятностях старается не думать, потому что это грех») и столь же характерным поискам дешёвой сенсации, а также исключительно оригинальному, цветистому языку (кто-нибудь мне объяснит, что значит определение «говорить жадно»?!), которое предлагает читателям «Выборчей» пани Эва Сокольская. В том числе и читателям из Лап (6 злотых в день = 2,4 этой замечательной газеты). В том числе и людям более образованным и лучше зарабатывающим, нежели эта журналистка. А их немало… да что там, осмелюсь утверждать, что я сам принадлежу к таковым! Я не стал бы упоминать об этом, если бы не фраза «в лапских домах ВСЕ притворяются, что всё в порядке». Я живу в одном из «лапских домов» и не притворяюсь, что всё в порядке. Всё и есть в порядке. На самом деле. И этого не изменит закомплексованная журналистская бездарность, лишённая воображения.
Bergman 1
- Интересно, в замке это читают. Сплошное лицемерие.
Altmagus
- А ну, пролы, за работу! Когда ищешь рабочего на стройку, так, б.., никого нету. А если и придёт какая шваль, так орёт «пять тысяч!», да ещё и напивается через день. Но пособия этим нищебродам – 50 тысяч в день.
Myslacyszaryczlowiek
- Ясное дело, лучше всего было при Бальцеровиче. Вернутся знаменитые челюсти («челюсти» - самодельные складные киоски, прим. перев.) на шаберплацах (шаберплац – стихийный рынок, на котором торгуют всякой всячиной, от слова «шабер» - мародёрство, прим. перев.). Один будет продавать корешок петрушки, а другой ему взаимно – зелень от той же петрушки. Мы это уже проходили – славную «рыночную» реформу». Теперь самыми дешёвыми рабочими местами станут городские ср..ни. Только для начала надо иметь чем ср..ть! Восторгались инвестициями каких-то азиатов (в оригинале – ciapatych, «чапатых», презрительное обозначение пакистанцев, индийцев или других темнокожих (но не негров!), в польский язык это слово привнесли поляки, временно работающие в Англии, - прим. перев.). Теперь азиаты возьмут ноги в руки, трофеи во вьюки. А денежки потекут за границу, крутясь, как какашка в проруби.
Miszczu .pl
- Да ведь там правят твои «боги» из ПиС. Славно правят, а кто их выбрал? Давайте подумаем… разве не избиратели Лап?
Myslacyszaryczlowiek 1
- Если бы правили боги из ПиС, они, наверняка, не допустили бы закрытия верфей, Франция в аналогичной ситуации отбилась от Европейской Комиссии. Если бы были верфи, надо было бы возить сталь. Для перевозки стали нужны были бы отремонтированные вагоны. И таким образом либералы во главе с Туском разрушили немалую часть польской промышленности.
Корейцы не закрывают своих верфей, хотя зарплата там примерно такая же. Бальцерович и Бузеки хотели закрыть шахты. Сколько уж там людей поувольняли и давали немалые выходные пособия. Потом пришла конъюнктура на уголь, и пришлось заново принимать людей на работу. То же самое будет с верфями, вернётся конъюнктура, только польских верфей больше не будет – ни много ни мало, 100 тысяч рабочих мест.
Но для этого надо иметь настоящих хозяев в правительстве, а саботажников польской экономики.
Надо быть рыночным дебилом, чтобы не понимать такой простой зависимости. Если ты интересуешься экономикой, то прекрасно знаешь, сколько западные правительства вложили в автомобильные фабрики, чтобы спасти рабочие места. Это не значит, что верфи или шахты должны быть вечными. Но это надо делать постепенно, инвестировать в другие, важные для будущего отрасли промышленности, а не делать этого как попало, тяп-ляп.
Польша – Мексика Европы.
Caro l42
- Если бы правили фанатики из ПиС, то сегодня там только перрон бы остался. Ты других дебилами обзываешь, а сам такой и есть. Подумай головой. Гданьская верфь была продана украинскому инвестору во время правления ПиС-а за 60 миллионов и сейчас вроде бы частная, а Снядек и Гузикевич до сих имеют претензии к этому правительству и премьеру Туску, по-твоему, это нормально. В конце концов, сколько лет налогоплательщики, в том числе пенсионеры, могут содержать шахтёров и судостроителей.
Myslacyszaryczlowiek 1
- Горнодобывающая промышленность рентабельна и прибыльна. Конъюнктура на корабли тоже со временем вернётся. Корейцы пока что свои верфи не закрывают и не переучивают кораблестроителей за большие деньги на собачьих парикмахеров.
«Если бы правили фанатики из ПиС, то сегодня там только перрон бы остался».
Приведи примеры.
Lexus _400
- «Если бы правили фанатики из ПиС, то сегодня там только перрон бы остался».
Для начала и перрон хорошо!
Senseiek
- Верфи угробила команда дебила Качиньского.
«Франция в аналогичной ситуации отбилась от Европейской Комиссии».
Если правительство не могло помочь верфи, то почему ни один из польских миллиардеров типа Кульчика не захотел этим заняться? Знаешь или нет? Потому что на верфях, в шахтах, на сталелитейных заводах правят профсоюзы! А никакой разумный бизнесмен не хочет иметь дела с этим г…ом.
Если бы это был такой выгодный бизнес, как ты изображаешь, то инвесторы лезли бы в двери и окна, чтобы купить что только удастся.
«Если ты интересуешься экономикой, то прекрасно знаешь, сколько западные правительства вложили в автомобильные фабрики, чтобы спасти рабочие места. Это не значит, что верфи или шахты должны быть вечными. Но это надо делать постепенно, инвестировать в другие, важные для будущего отрасли промышленности, а не делать этого как попало, тяп-ляп. Польша – Мексика Европы».
Но они делали это согласно законам! То есть купили акции.
Но Туск не виноват в банкротстве верфи, потому что их угробила команда дебила Качиньского. Единственный шанс для верфи, который я вижу, и что мог сделать Туск, это заказать на верфи корабли для правительства или армии, например, подводную лодку. Таким образом, фирма получила бы деньги, которые могла бы потом вернуть польскому правительству.
Lexus _400
- Даже патер Рыдзык ничего не добился.
«Если правительство не могло помочь верфи, то почему ни один из польских миллиардеров типа Кульчика не захотел этим заняться?»
Да ведь дядюшка Рыдзык даже организовал сбор денег на это благочестивое дело.
Myslacyszaryczlowiek 1
- Туск ликвидировал верфи через 1,5 года своего правления, но для дурачка Туска во всём виноват ПиС.
Senseiek
- Тупой ты, братец. ПиСовское правительство дало нелегальную помощь, нарушая законы ЕС. ЕС потребовал, чтобы фирма эту помощь вернула. Верфи отдавать было не с чего, и она обанкротилась.
Если бы дебилы из ПиСа сделали это согласно нормам ЕС, то не надо было бы ничего возвращать и объявлять банкротство.
Но как девственник без банковского счёта может, вообще, править, совершенно не имея никакого понятия ни об экономике, ни об обществе, ни об отношениях людей?
Kraniczek
- Меня поражает, с какой самоуверенностью люди пишут подобные глупости.
Несколько поправок:
1. Закрытие этих проклятых верфей – благословение для Польши. К каждому кораблю мы приплачивали десятки миллионов долларов, и это в период кораблестроительного бума. Тебе, приятель, кажется, что если возят сталь и колотят молотком – так это хорошо для экономики. Эти миллиарды, вбуханные в верфи, не с неба упали, это налоги, заплаченные другими фирмами, которые своим потом и кровью дотируют иностранных арматоров и сами из-за этого становятся менее рентабельными, увольняют людей, не инвестируют, потому что нечего.
2. Корейские верфи, на которые ты ссылаешься, да, платят людям столько же, но производительность труда в Корее в 8 раз выше, и даже у ленивых немцев производительность труда в 4 раза выше. Это значит, что у нас делают один корабль, а там – 4 и 8 кораблей, при том же количестве рабочих. Поэтому, чтобы сохранить рентабельность, следовало бы платить людям в 8 раз меньше, а платили 13-е зарплаты, 14-е… и т.д. А ещё профсоюзы содержать надо, в страховой фонд заплатить, космические налоги и пр.
3. А откуда для господ кораблестроителей пенсийки? Если они за 20 лет наработали только десятки миллиардов долгов, то за этот труд им надо будет за следующие 20 лет выплатить ещё десятки миллиардов. А откуда? Тянуть налоги с других фирм и людей. Чистая прибыль.
4. И в конце приятель говорит, что мы – Мексика Европы. Вот тут он нечаянно попал в точку. Не знаю, знает ли он, что в Мексике (первой в мире социалистической стране) после революции 1910 года более 80-ти лет правила социалистическая партия P.R.I., которая только в 90-х годах отдала власть, и тут Мексика после стольких лет правления социалистов начала быстро развиваться и сегодня намного опережает Польшу в развитии. Да, точно, и у них, и у нас дотировали верфи, но ты, приятель, кажется, не это имел в виду.
Со своей стороны добавлю, что такая верфь занимала половину города, где могли бы разместиться такие ненужные вещи, как… офисы, гостиницы, пекарни, кондитерские, магазины, квартиры, банки… а там бы люди не работали… Потому что богатство страны – это сталь, бетон, сталелитейные заводы… Остаюсь потрясённый чьей-то глупостью.
Myslacyszaryczlowiek 1
- «Корейские верфи, на которые ты ссылаешься, да, платят людям столько же, но производительность труда в Корее в 8 раз выше, и даже у ленивых немцев производительность труда в 4 раза выше».
Эк у тебя фантазия разыгралась, особенно насчёт Кореи.
«Это значит, что у нас делают один корабль, а там – 4 и 8 кораблей, при том же количестве рабочих».
Тут ты совсем чушь несёшь, спутал производительность труда с количеством кораблей.
Дальше мне и комментировать не хочется, потому что ты пишешь чепуху, высосанную из грязного пальца правой ноги.
Miszczu .pl
- Ты чистокровный большевик с ленинской родословной.
Myslacyszaryczlowiek 1
- Нет, не большевик. Но меня раздражают вольнорыночные дебилы. Вытаскивают какие теории 150-летней давности. Либеральные партии на западе имеют двух- трёхпроцентную поддержку, а у нас пропаганда морочит голову молодым людям, и они находятся у власти практически двадцать лет с коротким перерывом. Если бы я был большевиком, то призывал бы к национализации средств производства. А я всего лишь считаю, что государство должно играть более активную роль в создании новых фабрик, должно поставить на пару каких-то отраслей, специализироваться в этом и продавать всему миру. Так делает большинство западных государств. Примером может служить Франция, а образцом является Южная Корея. Ведь ещё в 1950 году они на осликах ездили. Когда у нас будет промышленность с передовыми технологиями, тогда нам будут по средствам пособия для таких Лап.
pogromca_mrowek
Lexus _400
- Много ещё сирот, плачущих по коммуне, в ПНР-бис!
Этого положения вещей не изменит даже ЕС и Шенген, а также три ПРО!
Hid –den
- «А ну, пролы, за работу!»
Наконец-то, нормальная реакция
Lexus _400
- Зачем Горбачев дал полякам свободу? Валенса во Флориде загорает, а люди в Польше так маются?
Pogromca _mrowek
- Такие городки ждёт гибель, даже Бальцерович об этом говорил. Лучше инвестировать в крупные города, даже в Белосток, чем искусственно поддерживать жизнь в таких городках.
PS Разве жители Лап не могут ездить на работу в Белосток?
Dany _28
- Точно, я как-то видел репортаж о таком городке в США, достаточно было чуть иначе провести дорогу, и городок был приговорён к забвению, так что люди не стали ждать, разъехались по стране.
Olias
- Для Варшавы, для нескольких сытых городов, для элиты III Речи Посполитой мы только того и стоим, сколько денег удастся из нас выжать, а когда денег уже нет, остаётся ещё возможность вытапливать мыло из недочеловеков.
Miguell
- так пусть Лапы сидят голодные, и ты, Olias, тоже сиди голодный. Левацкое мышление, «пусть правительство даст, пусть правительство сделает, Варшава о нас не думает».
Я работал в разных городах. Работу надо искать, работящие люди везде нужны, надо шевелить задницей.
Greg 0
- Это-то как раз довольно просто: чтобы выехать на поиски работы, надо иметь наличных на два месяца, чтобы прожить (когда едешь по договорённости), или больше. Если ты до сих пор не знал, что есть семьи, у которых таких денег нет, то теперь узнал из этой статьи…
Miguell
- Ещё один защитник угнетённых отозвался. Чтобы поискать работу в Белостоке, надо иметь пару злотых на билет. Чтобы найти работу арматурщика, штукатура в Варшаве \ Люблине, надо иметь 20 злотых на автобус. И не надо сразу перевозить с собой всю семью. Я понимаю – женщины, но мужики-то что, приклеились задницами к одному месту, это ничем нельзя оправдать.
Stach .pl
- А сколько тратят на заключённого??
Эти люди не хотят от государства пособия. Они хотят работы. Организовать работу и предотвращать такие ситуации – это обязанность государства. И это правительство во главе с Туском не должны допускать таких драматических случаев. Это видно на Западе, как правительства предотвращают массовые увольнения. В XX веке это скандал, чтобы в тюрьме заключённые имели гораздо лучше условия, чем порядочные люди, не говоря уж о детях. Премьер Туск, за работу, вскрывать аферы, потому что, в частности, и из-за этого простым людям живётся хуже, и предпринимать действия, чтобы ситуации в Лапах и других, таких же местах изменить. За работу, господин премьер!
Miguell
- «Это видно на Западе, как правительства предотвращают массовые увольнения».
Да, особенно в Испании, где излишний интервенционализм и обложение работы налогами привели к скачку безработицы до 20%.
Правительство хорошо делает, что не вмешивается в дела предприятий. Его роль – это забота о конъюнктуре и принципы (хотя бы более эластичные законы о труде, достигнутые в прошлом году в переговорах с профсоюзами). Пока что, на фоне Европы, оно очень неплохо справляется со своей ролью. Уровень безработицы в ЕС в течение последних 2 лет значительно выше, чем в Польше. Это не отменяет того факта, что отдельные предприятия (особенно в тяжёлой промышленности) будут разоряться под напором конкуренции.
Kosmiczny _swir
- Нам нужен Бисмарк. А Испания – это никакой не запад, а юг со всей его спецификой. Испания на самом деле ближе к Польше, чем к западу. Я это знаю по собственному опыту.
Правительство должно давать людям работу, а не пособия. Так делала Французская Республика после революции, так делал Наполеон, так делал Бисмарк, так, наконец, делал Рузвельт. История показывает, что сильное государство действует, заботясь о своей экономике и своих гражданах.
Неолиберальная идеология хорошо показала себя в странах с низкой плотностью населения и природными богатствами, доступными всем. В таких странах каждый может пойти на охоту на какого-нибудь зверя и возделывать маниок на приусадебном участке, а государство ему ни для чего не нужно.
При такой плотности населения, как в Европе, невозможно обеспечить существование стольких людей такими методами. Нужна хорошая организация и планирование, а иначе всё развалится и будет, как в Белоруссии или в Молдавии.
Miguell
- «Правительство должно давать людям работу».
Для этого нужна огромная и очень эффективная государственная администрация. С этим в Польше издавна была и есть проблема.
Пример Испании не одинок. В последнее время в Германии резко подскочила популярность FDP, поскольку в этой стране сотни тысяч людей живут на пособия. Недавно в Германии весьма известен сделался пример человека, который несколько десятков лет отказывался от всякой работы. Немецкая экономика не может справиться с проблемами (20-процентное падение экспорта, уменьшение ВВП на 5%, значительный бюджетный дефицит…).
Значительно лучше ситуация с безработицей выглядит в странах, где государство не направляет весь свой чиновничий аппарат на «осчастливливание» людей.
Nowotkomarceli 4
- «Нам нужен Бисмарк».
Если уж ты ищешь вдохновения в этой личности, то должен знать один случай из его жизни. Когда Бисмарк хотел принять непопулярные экономические решения, его император Вильгельм I сказал: «Дорогой канцлер, но меня за это повесят на фонаре». На что Бисмарк ответил: «Ваше величество, все мы когда-нибудь умрём, но это не повод, чтобы делать глупости».
«Правительство должно давать людям работу, а не пособия».
Правительство существует не для того, чтобы давать людям работу, ну, разве что в канцелярии премьера.
«Так делала Французская Республика после революции».
Какую революцию ты имеешь в виду? Впрочем, не имеет смысла приводить в пример французские решения из прошлого, поскольку любая французская система кончалась упадком и выходом людей на улицу. Французские системы создаются на краткий срок, а затем они не выдерживают конкуренции изменяющегося окружения и погибают.
«так делал Наполеон».
Прежде всего, наполеон утопил французов в море крови, а континентальная блокада всё равно не помогла, поскольку у Англии товары были лучше. Все страны, участвовавшие в этой блокаде, закрывали глаза на контрабанду где только могли, а некоторые, такие, как Россия, быстро отказывались от этого навязанного силой механизма.
«Неолиберальная идеология хорошо показала себя в странах с низкой плотностью населения и природными богатствами, доступными всем. В таких странах каждый может пойти на охоту на какого-нибудь зверя и возделывать маниок на приусадебном участке, а государство ему ни для чего не нужно».
Где ты это вычитал?????
«При такой плотности населения, как в Европе, невозможно обеспечить существование стольких людей такими методами. Нужна хорошая организация и планирование, а иначе всё развалится и будет, как в Белоруссии или в Молдавии».
«Хорошее планирование» я прекрасно помню по GYH/ «Хорошее планирование» - оно существует как раз в Молдавии и Белоруссии.
Elsby
- «Нам нужен Бисмарк».
Ага, скажи уж сразу – Гитлер.
Kosmiczny _swir
- Если мы уберём расистский элемент и стремление убивать все другие нации, умственно отсталых и всяческие меньшинства, то, в принципе, было бы не так уж и плохо. Мы не хотим никого убивать – ни евреев, ни русских, ни геев, ни лесбиянок, ни даже католических ксёндзев, но сильное государство, сильное общество, союз общества с капиталом были бы как нельзя более желательны.
Zdzisiek 66
- Вот, я так и знал. Гитлер был, в общем, нормальным парнем, только с евреями перегнул палку. Но зато был порядок и сильное государство ))
Nowotkomarceli 4
- Глупость – главный враг человечества.
В первую очередь, познакомься с одним из главных лозунгов III Рейха: «Пушки вместо масла» - и подумай, была ли Германия 1933-1939 годов раем или всё-таки бедной страной? Затем, будь добр, подумай, не было ли в Германии, как в современной Польше, областей очень богатых и таких, где царила структурная и наследственная бедность? Предлагаю тебе сравнить два региона: Баварию и Восточную Пруссию (нынешние Мазуры). Затем поразмышляй, почему Пруссия, где был самый высокий натуральный прирост в Германии, имела постоянное число жителей в течение 80 лет (причём смертность не имела к этому никакого отношения)? Приход Гитлера к власти не изменил положения вещей. Более того, Восточная Пруссия 9потому что речь идёт о ней) постоянно получала дотации, там организовывали жилищное строительство за государственные деньги, поддерживали колонистов с западных территорий, вдобавок государство активно участвовало в развитии экономики этого региона – но это нисколько не помогло, люди эмигрировали и убегали, потому что была бедность.
Далее, будь добр, присмотрись к финансам Рейха в 1937-1939 годах. Короче говоря, состояние финансов было самое жалкое, и если бы не захват Австрии и Чехии с их золотыми резервами, вся финансовая и валютная система страны рухнула бы. Это было также и причиной отставки Ялмара Шахта, который не соглашался на некоторые действия, потому что знал, чем это грозит (либо войной, либо гигантским кризисом), другого пути не было).
Конечно, можно ещё много писать об этом государственно-приватном партнёрстве, например, о рабах, которых государство поставляло на фабрики, лаборатории или в деревни, но трёх этих примеров должно быть достаточно.
Kosmiczny _swir
- Кто говорит о производстве пушек вместо масла? Речь идёт о том, что правительство должно заботиться о польских фирмах, как частных, так и государственных. Иностранные инвесторы часто имеют предпочтительные условия по сравнению с польскими предпринимателями, и многие предприниматели на это жалуются. Dell в Лодзи получил земельные участки за гроши, город создал всю инфраструктуру, Dell получил дотации, какая польская фирма имела такую фору? Что польское налоговое управление сделало с «Оптимусом»? по какому, вообще, закону, чтобы быть конкурентоспособным, «Оптимус» должен был реэкспортировать компьютеры в Польшу? Ведь это было явное предпочтение иностранных фирм.
Nowotkomarceli 4
- «Кто говорит о производстве пушек вместо масла?»
Ты это сказал, никто иной, только ты, приведя пример гитлеровской Германии.
«Если мы уберём расистский элемент и стремление убивать все другие нации, умственно отсталых и всяческие меньшинства, то, в принципе, было бы не так уж и плохо. Мы не хотим никого убивать – ни евреев, ни русских, ни геев, ни лесбиянок, ни даже католических ксёндзев, но сильное государство, сильное общество, союз общества с капиталом были бы как нельзя более желательны».
Swoboda _t
- «Нужна хорошая организация и планирование, а иначе всё развалится и будет, как в Белоруссии или в Молдавии».
Интересно, что ты провозглашаешь далеко идущее вмешательство государства в экономику и социализм и в то же время запугиваешь примерами Белоруссии и Молдавии. Так вот, в обеих этих странах государство сильно влияет на экономику, правят коммунисты (ну, в Молдавии президент недавно подал в отставку), а большинство людей работают на государственных предприятиях. Обе страны бедные и отсталые, при чём вторая – самая бедная в Европе (гмина Лапы по сравнению с Молдавией – это эльдорадо). Короче говоря, как и все сторонники красных, ты провозглашаешь Социализм – да! Искажения – нет!». Вот только это нигде не сработало (и не говорите о Скандинавии, потому что Швеция и Финляндия – это капиталистические страны и находятся на первых местах во всех рейтингах государств наиболее дружественных и либеральных в смысле экономики).
Dany _28
- Ну, хорошо, ты видел, какое влияние имеют огромные деньги, вложенные в бывшую ГДР? Никакое или очень малое? Города, городки, всё обезлюдело, люди уехали туда, где есть работа. Экономическая ситуация всё равно на более высоком уровне, так что нам тем более не под силу такое «осчастливливание» насильно.
Kosmiczny _swir
- Одно только вкладывание денег ничего не даст. Надо ещё делать это с головой.
Nowotkomarceli 4
- Какие-то бредни ты пишешь, прыгаешь от Наполеона к Гитлеру. Прославляешь центральное планирование, а затем критикуешь его. Ты поддерживаешь раздавание денег и тут же говоришь, что это неправильный путь.
То есть ты «настолько за, что даже против» (цитат, слова Леха Валенсы – прим. перев.). а когда кто-то приводит тебе аргументы, то ты говоришь, что должно было быть иначе, или молчишь. Дурак армейский, только и всего.
Kosmiczny _swir
- Нет, просто я против крайностей. Когда двое спорят, и один говорит, что надо раздавать, а другой говорит, что нельзя раздавать, то в этот момент появляется третий, который говорит, что иногда раздавать хорошо, а иногда плохо, и надо быть внимательным, то оба спорящих смотрят на него, как на сумасшедшего из глубин космоса.
Guino
- А какими это налогами обложена работа в Испании? Насколько я знаю, меньше, чем в Польше.
Jaibrat
- Miguell, я склоняюсь к тому, что решением сильных стран Евросоюза Польша должна изменить профиль со Страны-Производителя на Страну-Рынок Сбыта товаров, производимых в ЕС, причём не самого лучшего качества. Мы были слабым производителем, но, видимо, и это всё-таки блокировало приток на наш рынок битых машин, ношеной одежды, простого и непростого мусора, который не придётся утилизировать там. Лапы в каком-то смысле блокируют въезд немецких железных дорог на наши рельсы.
Jimmyjazz
- «Организовать работу и предотвращать такие ситуации – это обязанность государства».
Государство должно организовать людям работу. Пора понять, что 1000 рабочих мест, которые «организует» правительство, означает, что эти места изъяты из частного сектора. Деньги на деревьях не растут, и чтобы дать этой тысяче человек работу, правительство должно забрать эти деньги (+ зарплата чиновников, которые будут это делать). Это игра, в которой работники всегда проигрывают, а деньги пропадают без толку.
Kosmiczny _swir
- Ну, видишь, вожди французской революции, Наполеон, Бисмарк и Рузвельт как-то справлялись. Снижали безработицу путём инвестиций в инфраструктуру, армию, войну, и всё как-то крутилось. Бисмарк умел сделать так, что были довольны и фабриканты, и рабочие.
Неолибералы с дуба рухнули и сомневаются в том, что проверено веками.
Zdzisiek 66
- Про Гитлера забыл? Вот уж кто инвестировал в инфраструктуру, армию и войну. Всё было отлично, фабриканты было довольны, рабочие тоже, безработица исчезла, ещё из Польши приходилось рабочих привозить. Ну, а Ленин? Он и вовсе свёл безработицу к нулю, причём на 70 лет. Тоже и фабриканты, и рабочие были в восторге. А что, может, кто-нибудь видел в СССР фабриканта, который был бы не в восторге от экономической политики? Ни одного такого не было.
Kosmiczny _swir
- Потому что был один большой фабрикант, назывался партия.
Reformator 10
- Я это вижу так. Китайцев – миллиард, и скоро они отнимут всю работу в Европе и в Америке. Америка богатая, потому что она хорошо организована, там люди работящие, расторопные и хорошие условия для экономической деятельности, и правительство прогрессивное.
Европа перенаселена, а хочет жить в благосостоянии. Это невозможно, чтобы такое благосостояние, какое было когда-то в ФРГ, было во всей Европе, потому что они жили экспортом. Вся Европа поднимется на уровень Германии и будет экспортировать по всему миру – что-то сомнительно.
У России огромные неиспользованные возможности и мало возможностей (так в тексте, ничего не поделаешь, не редактор я ближнему своему – прим. перев.) использовать их. Для Европы нет другого выхода, только помириться с Россией и освоить Сибирь и юг, Казахстан. Сами они не в состоянии этого сделать. Только тогда можно будет сравниться с Америкой. Если этого не сделает Европа, то войдут Япония и Китай и воспользуются случаем.
При моей жизни население Азии выросло в 8 раз, а Европы – в 1,5 раза.
Jimmyjazz
- «Снижали безработицу путём инвестиций в инфраструктуру, армию, войну, и всё как-то крутилось».
Это называется слепота. Ты утверждаешь, что они ликвидировали безработицу, потому что не видишь, сколько рабочих мест и денег потеряли из-за этого «создания» рабочих мест. Просто статистика не принимает во внимание такого явления, как альтернативные расходы. Деньги на деревьях не растут, и все такого типа действия приводят только к обнищанию общества.




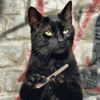

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием









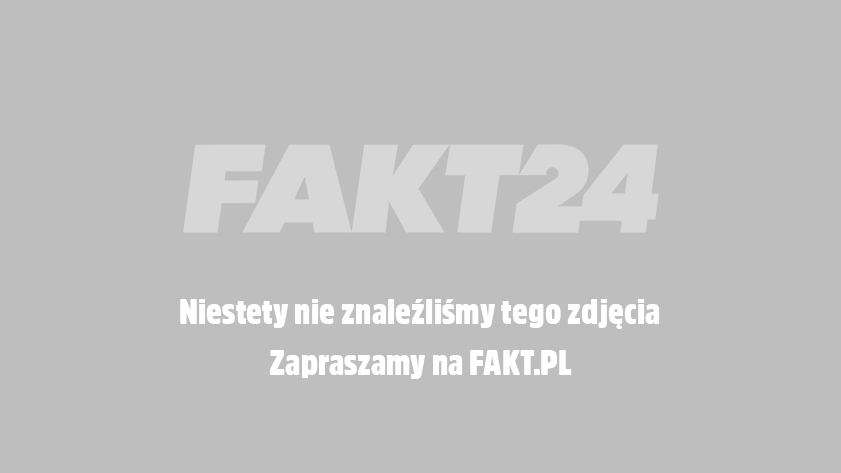





 бедные-бедные пшеки
бедные-бедные пшеки













 DDD
DDD