Журналисты «Нашего Дзенника» задержаны в Москве
Журналист и фоторепортёр «Нашего Дзенника» были задержаны в Москве, - информирует газета. Пётр Фальковский и Марек Боравский работали над материалом о российском расследовании смоленской катастрофы. Их задержала ФСБ, - пишет «Наш Дзенник». Поляков выпустили через 5 часов.
КОММЕНТАРИИ
Nie –tak
- Какое несчастье, что их выпустили, надо было надеть смирительные рубашки и отослать в Польшу, в комнату без дверных ручек.
Baq 009
- Хе-хе-хе, учредить комиссию для расследования обстоятельств задержания.
Snurfik
- Ах, что это было за Покушение!
Rosomak _1
- Жаль, что их выпустили! Могли отправить на несколько лет в добровольную экскурсию по Сибири. Эта газетёнка того и заслуживает!
Zazaq
- Вот оно! Ещё одно доказательство заговора (теракта?), естественно. Прокуроры ходят в гражданском, даже по-спортивному, и говорят очевидную правду. Никакого чувства собственного достоинства, позор!!!
4cat
- ФСБ=КГБ
Bowierz
- Я надеюсь, Польша не потребует экстрадиции, двумя фанатиками меньше…
Conn -x-5
- Для меня это грустное известие. Русские на прощание должны были их попинать, двух этих ротозеев, а тут – ничего подобного. Клоуны уехали из России непнутые, могли бы им хоть рыла начистить или помучить, а тут – такое разочарование, непростительное разочарование.
Русские, исправляйтесь, а то я изменю мнение о вас, вы обабились.
Не будет писанины в течение месяца, как вольских «журналистов» запинали в России агенты Путина (НКВД. ФСБ, КГБ, ГУРУ, БУРУ и прочая польская икота).
Блин, подвели меня парни (секретные агенты КГБ Путина), назло с утра в туалет не пойду.
Calcinus
- Nie –tak, немецкая фашистка, Польша – страна, где журналисты имеют право спрашивать, кого хотят и о чём хотят, но фашистам это понять, конечно, трудно, что может быть свобода слова и мысли.
Antobojar
- Как могли русские беспокоить вернейших АПОСТОЛОВ Ленина…!!
Ведь это Ленин – автор инструкции, данной журналистам:
«ПОМНИТЕ… НЕТ ТАКОГО ВЗДОРА, КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ НАПЕЧАТАТЬ!!
To _ja_dziki-9876543210
- Их уже выпустили???
А у меня была тихая надежда, что где-то на Камчатке они будут строить дорогу через тайгу! А главным вдохновителем назовут Пана Рыдзыка, и Россия потребует его экстрадиции!
Hi 2per
- И хорошо. Сразу их на Лубянку, быстрый процесс и 10 лет лагерей в Сибири для этих фанатиков.
А если серьёзно, то так и вижу, как Антек и Председателишко будут бушевать сегодня в Сейме. Может «Питбуль» Кемпа тоже погавкает.
2romki
- У-тю-тю, вы в самом деле думаете, что они там были?
Jarek _bez_proszkow
- Теперь будут придумывать, чего только им русские не нарассказывали о своём покушении на Поскрёбыша. :-DDD
Mordaprostaczka
- «Если бы генерал сам не сказал, что прибывший является прокурором, то я бы не догадался. Мужчина был одет по-спортивному, без каких-либо знаков различия».
Местные гопники свистнули у них аппарат.
Wejsunek 11
- Задержали? И выпустили??? Чёрт… Куда катится Россия… а вот погнать бы их босиком в Сибирь, так в их тёмных башках и прояснилось бы…
Normalny 10
- Это на 100% правда!!! Поляки потеряли президента, потому что не смогли его сберечь!!!
Marpiosko
- Мужик был прокурором, о чём легко догадался «правый» гений. Но основание этих домыслов потрясает:
МУЖИК БЫЛ ПРОКУРОРОМ, ПОСКОЛЬКУ НИЧТО НА ЭТО НЕ УКАЗЫВАЛО, ИБО ОН НИКАК НЕ БЫЛ «ОБОЗНАЧЕН».
Их там среди правых специально отбирают для работы по принципу «чем глупее, тем лучше»?!!
Remo 29
- Чей «Дзенник»?ъ
Emigrant _1984
- «Собранный ими фотоматериал функционеры ФСБ уничтожили».
На странице «Нашего Дзенника» нет ничего конкретного. Где фотография гражданина, который оказался прокурором?
Парни игрались в детективов, и им накостыляли. Они хотели опередить польских следователей, чтобы доказать заговор? Но поскольку, к несчастью, их не пытали, то и писать не о чем?
Rozterka 47
- Прокуроры не были «обозначены»
В Польше тоже нет, господа журналисты, но, может, вы ни одного не видели.
Ruta 71
- «который говорит частным образом и архи-снисходительным тоном».
А для ПиС этого достаточно, вывод один – теракт…
Antybiurokrata
- Поляки, вы потеряли президента, потому что не сумели «уберечь» его.
Я это закончу. Такого президента, как Качиньский, надо защищать от него самого. Вот тут есть документальный фильм о советнике Президента США, который оного Президента защищает.
www.youtube.com/watch?v=kUWIw3SFgj8
рядом с одним из объектов (особняков) войск воздушно-космической обороны, к которым мы подошли, находился военный в чине генерал-лейтенанта, который вдруг заинтересовался нами. Забрал у моего коллеги фотоаппарат, после чего вызвал офицеров Федеральной Службы Безопасности.
А у нас, когда я как-то раз ехал с англичанкой на поезде в Польше, и она отважилась сфотографировать то, что было за окном, какой-то сторож вырвал у неё фотоаппарат и стёр снимки, потому что вроде бы она сфотографировала «стратегический объект» в виде виадука. Потому что этот сторож был «офицером безопасности» или что-то в этом роде, и нельзя. Так что давайте не будем критиковать русских. А если и критиковать, так за то, что этих господ не отвезли на принудительное лечение.
А если всё ещё не поняли, в чём дело, то пусть съездят в США и сфотографируют там, например, резиденции NASA.
Podkarpacie 55
- «Наш Дзенник» (не знаю, почему так называется, не знаю никого, кто признался бы в том, что его читает) – газета католическая, соблюдающая заповеди и принципы веры. Как известно, - ложь – это не грех?
Don _eugenio
- Два дурачка заблудились на Внуково, а форму портье перепутали с мундиром генерала.
Zgr –edo
- Что-то мне их не жаль.
Jwojnar
- И что, это всё, так просто – фотки стёрли и выпустили? А ссылка в Сибирь, пытки, камера с жестокими убийцами, лампа в глаза, запугивание, изнасилования, голод и мороз – ничего не было, только иронический (простите – архи-снисходительный) тон случайного прокурора? Ой, неладно что-то в москальском государстве.
Erotykon .pl
- Как эта встреча выглядела с точки зрения русских? Если она, вообще, состоялась? Наверняка, теперь будет крик, что это покушение на демократию и прочее барахло.
Warturek
- Может, и фанатики, но польские. Я удивлен тем, как путинолюбы пачкают на этом форуме поляков и президента. Он не был моим президентом, не хотел быть им и совершил массу ошибок, но пусть чужие не смеют формировать польское общественное мнение методами КГБ.
И кстати, почему их задержали? Боятся задаваемых вопросов? Или существуют сведения в ихних службах на тему катастрофы, которые запрещено распространять в СМИ?
Zuza -19
- Пук-пук, какая газета, такие и журналисты, подобную газетёнку могут читать и верить в то, что читают, только одержимые дурни. Распознали прокурора по выражению лица и левой ноге. Ну, так ведь у Рыдзыка одни гении работают.
Miszogun
- Может, по крайней мере, дали им по паре дубинок на каждую ж..у?
Tspl
- Им сказали, что мужик в спортивном костюме – прокурор, они и поверили, что прокурор.
Жаль, не сказали, что это Папа Римский.
Вот это была бы встреча. Папа в спортивных штанах под Москвой
Wyboga
- Prawdziwik z RM! (ответ на пост, которого форуме нету – прим. перев.) Если бы в Польше была такая решимость, то эти твои фанатики из «Дзенника» глупостей не писали бы.
Sta -n3
- Наверняка Ярек К. нападёт на министра иностранных дел и обязательно на премьера Туска за то, что не защитили честь и достоинство «истинно польских» журналистов, а его дворняжки тоже устроят визг.
Tavi 33
- Хватит того, что москали заставили Донека на брюхе ползать, да ещё добавили пинка от Анодинки – ну, и лежит пластом. Что там какой-то журналистишка…
Ko _menta_tors
- «Мужчина был одет по-спортивному, без каких-либо знаков различия».
Обычно у прокурора на погонах и на спине пиджака обозначен его ранг, так, как у нас (Отечественный Прокурор – ОП, Безапелляционный Прокурор – БП, Заместитель в Канцелярии – ЗК и т.д.).
Urhan
- Ладно, крутые, «геройские журналисты НД» не сообразили (этого как раз можно было от них ожидать)… зато другая сторона догадалась, кто такие, отреагировала и погнала к чёрту подозрительную компанию.
Don _eugenio
- Два тюфяка из Польши позволили обокрасть себя во Внуково. Теперь надо как-то объяснить потерю аппаратуры главному вору в Торуне.
Marudna .menda
- Жаль, что их не послали делать репортаж из Воркуты.
Cwdj
- «Наш Дзенник» - одна из немногих польских газет, которые честно стремятся к выяснению правды о катастрофе, и надо быть совершенно одураченным польскими СМИ, чтобы не видеть этого. Читая многие из комментариев на этом форуме, вижу, что таких одураченных нам хватает.
Tsuranni
- Интересно, за что цензура вырезала мой пост? За употребление слова «мохеры»? или за выражение сожаления о том, что эти дурачки не грузят уголь на какой-нибудь шахте в Сибири? Или, может быть, за печаль о том, что их выпустили, и шанс на улучшение качества воздуха в Польше упущен…
Fakiba
- Польша должна выразить официальный протест и обвинить русских в унижении, потому что они выпустили невменяемых без медицинского осмотра.
Grozka
- Если уже поляк радуется, что москали беспричинно задержали поляка и уничтожили результаты его труда, значит, эта страна больна.
Jimir
- Надеюсь, хоть по морде получили?
Mela _1
- @Warturek
1. «Путинолюбы»… очень интересно. Что я такого вам сделала, что вы меня с самого утра обжиаете?
2. Что журналисты иностранного государства делали на территории другого иностранного государства, и была ли у них аккредитация?
3. Как должны были вести себя польские спецслужбы, если бы на их территории крутилось двое подозрительных людей-иностранцев и проводили собственное расследование?
4. Существует ли стенограмма разговора с прокурором или это воображение «журналистов-следователей» из НД так его представило, а вы без малейшего сомнения им поверили?
5. Откуда вы знаете, что фанатики польские? А может, мусульманские или, не дай Боже, еврейские? Птому что из НД? Это уже гарантия чистоты идеологической и этнической в духе «отца» Рыдзыка?
Warturek, перефразируя, «я удивлена, как рыдзыколюбы пачкают на этом форуме собственное государство, премьера, генерального прокурора и президента»…
Rucki
- Должны были ещё плетью получить.
A .k.traper
- Славно посмеялся с утра над наивностью этих журналистов, никто в России на такие серьёзные темы на станет разговаривать ни с того ни с сего, если занимает какой-то государственный пост, это только в Польше некоторые выносят информацию из «тайной» комиссии.
Итогом всего этого стало вроде бы ничего не значащая и вежливая, но какая же горестная и правдивая фраза: «сказал, что мы потеряли его потому, что не смогли его уберечь».
Rusalka –amelka
- Ну вот, теракт подтвердился. Офицер сказал значительно, что мы не смогли уберечь президента. Это зловещие слова. «Нашему Дзеннику» теперь на полгода хватит их анализировать.
Grozka
- Не говоря уж о ссылке в Сибирь».
Поляк поляка? Никому бы этого не пожелал, в особенности брату!
Люди! Мы можем иметь разные взгляды, разные предпочтения, разных «гуру» (либо Дональда, либо Ярослава, или ещё кого-то), но как народ давайте будем солидарны.
По крайней мере, давайте будем человечны.
Signal
- Провокация ПиС-сектантов в России.
gazeta.pl
Dziennikarze "Naszego Dziennika" zatrzymani w Moskwie




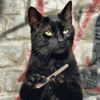

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием

 ) а что творилось в христианской Европе в это же время...
) а что творилось в христианской Европе в это же время...




























