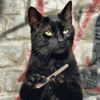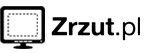http://wyborcza.pl/1,76842,6708343,N......5&startsz=x
Ryszard Przybylski
Nasz Wielki Sąsiad. Rok 1943. Lata chłopięce
Рышард Пшибыльский
Наш Большой Сосед. Год 1943. Отрочество.
«В наших местах господствовало убеждение, что коли человек завшивел, он должен переночевать в конюшне. Пропитанная конской мочой конюшня считалась чем-то вроде дезинфекционной камеры».
Эссе из последней книги «Улыбка Демокрита. Un presque rien».

Рышард Пшибыльский. Его эссе – истинная классика жанра, это всегда знак несогласия на утрату красоты и моральной гармонии в современном мире. Родился в 1928 году, выдающийся историк литературы (польской и русской). Известен как сторонник ценностей классицизма в их современном значении; по мнению Пшибыльского, классицизм не есть исторически меняющийся стиль, но основа мировоззрения – выбор гармонии и традиции, культуры перед лицом случайности и хаоса. Важнейшие книги: «Классицизм, или Настоящий конец Царства Польского» (1983), «Пустынники и демоны» (1994), «Тень ласточки, эссе о мыслях Шопена» (1995), «Зимняя сказка, эссе о старости» (1998). Его книги трижды выходили в финал конкурса на награду Нике.
 Эссе, которое мы публикуем, взято из последней книги Рышарда Пшибыльского «Улыбка Демокрита. Un presque rien», которая выйдет в свет 15 июня в издательстве «Sic!». Книга состоит из трёх эссе, основанных на воспоминаниях автора о детстве (Волынь, 30-е и 40-е годы) и юности (Гданьск, сразу после войны): «Икона моей матери», «Наш Большой Сосед» и «Демокритово воспитание». Первое эссе посвящено интерпретациям иконографических образов святого Иосифа, второе – образу России и Мохнацкому, третье – экзистенциональной позиции Демокрита Абдерского.
Эссе, которое мы публикуем, взято из последней книги Рышарда Пшибыльского «Улыбка Демокрита. Un presque rien», которая выйдет в свет 15 июня в издательстве «Sic!». Книга состоит из трёх эссе, основанных на воспоминаниях автора о детстве (Волынь, 30-е и 40-е годы) и юности (Гданьск, сразу после войны): «Икона моей матери», «Наш Большой Сосед» и «Демокритово воспитание». Первое эссе посвящено интерпретациям иконографических образов святого Иосифа, второе – образу России и Мохнацкому, третье – экзистенциональной позиции Демокрита Абдерского.
Заняв Ровно в конце июня 1941 года, осенью немцы превратили город, в котором я родился, в административный центр большой оккупационной зоны, которую назвали Reichskommissariat Ukraine. Теперь мы могли познавать и восхищаться природой другого государства, совершившего раздел Польши. Волынь быстро преобразилась в колонию, которую Третий Рейх намерен был неутомимо эксплуатировать все свои апокалиптические тысячу лет.
Количество учреждений, толпы чиновников и военных, их осанка, их отношение к покорённому населению – всё это свидетельствовало о том, что судьба наша решена, может быть, даже до конца света. Согласно приказу из Берлина, о котором непосвящённым стало известно от всякой масти коллаборантов, вся здешняя славянская популяция, даже и недобитые евреи, теперь должны были тяжко трудиться на благо немецкой военной машины и её администрации.
Конечно, национализированное Советами имущество перешло в собственность немцев. Равно как и коллективизированные и национализированные деревенские усадьбы. Таким образом, расположенное в селе Тынне, неподалёку от Ровно, бывшее имение пани Бонкович, которое в марте 1940 года Советы превратили совхоз, стало, в конце концов, имением Рейха: Staatsgut Tynne.
Немецкая администрация обратила на него особое внимание, поскольку здесь каким-то чудом уцелели многочисленные теплицы и обширные поля парников. Это имущество быстро привели в порядок. Силой доставили сюда известного ровенского огородника и приказали ему организовать рабочую силу. Им явно требовалась кулинарная база для высших чиновников и возможность снабжать офицеров высокого ранга свежими овощами и разными оранжерейными деликатесами. Это соответствовало тогдашнему стилю жизни немцев на колонизированной Волыни.
Тон задавал сам Reichkommissar Эрих Кох. Не колеблясь он выгнал из нескольких деревень украинских крестьян, чтобы устроить там заповедник для немецких любителей охоты. Весной 1942 года он организовал фестиваль культуры, чтобы его толпы его чиновников могли наслаждаться музыкой Бетховена и Вагнера. В августе того же года он также выполнил приказ об уничтожении на этот раз всех евреев, какие ещё уцелели. Это тогда у нас в Тынне застрелили пана Мигдала.
***
Управителем этого имения стал поляк, отцу знакомый. Случайно встретил его и вдруг предложил должность кладовщика и жильё в бывшей усадьбе. Отец не раздумывал ни минуты. Он исчезал из поля зрения разных опасных коллаборантов и помещал семью, как он сказал, поближе к еде.
При Советах усадьбы была основательно перестроена, ибо эта система всегда нуждалась в квартирах для многочисленного начальства. И вот мама упаковала бельё, наше единственное имущество, велела мне связать верёвкой несколько наших книг, и в одном из этих помещений разбила наш очередной бивуак. Поскольку каждая копейка была на счету, а прежде всего необходим был паёк, меня определили на работу в теплицу.
Всё произведённое Staatsgut Tynne продавал в указанных заготпунктах. Наличные отдавались надутому чиновнику, который время от времени прибывал к нам в обществе двух солдат Вермахта. Кроме того имение должно было поставлять заказанные заранее овощи и фрукты на кухню Kreislandwirt-а, управления, надзиравшего за государственными сельскохозяйственными предприятиями.
Это обстоятельство имело важное влияние на мою жизнь. Петро, молодой украинец, который занимался лошадьми и транспортом, не знал ни «der», ни «die», ни «das». А я знал. Ещё до войны пан Нудель, немец, один из многочисленных друзей нашей семьи, слегка научил меня своему родному языку, впрочем, по явному желанию отца. Учил он методом столь же старинным, сколь и простым. Он вдалбливал мне в голову грамматические правила и столбики упорядоченных слов. Месяцы, зерновые, фрукты, овощи.
Благодаря тому, что я более-менее понимал, когда ко мне обращались по-немецки; что я мог даже слепить примитивную фразу и знал, что «die Petersilie» - это петрушка, меня выгнали из теплицы и приставили к Петро. С весны 1942 года мы стали тандемом, отвечавшим за доставку наших плодов на тысячелетнюю кухню Kreislandwirt-а.
Понятно, что Петро, взрослый 18-летний мужчина, который уже умел многое из того, что важно и необходимо в жизни, стал моим учителем и образцом для подражания.
Лошадей я знал, в конце концов, я вырос в кавалерийском полку, но Петро знал их лучше и лучше умел с ними обходиться. Ещё он умел всё починить.
Он напоминал мне своего тёзку из старого водевиля «Наталка-Полтавка» Ивана Котляревского, «тильки вин не блукався по заробитках» (только он не бродил в поисках работы), а всё время жил в своём селе, и единственным городом, который он знал, было Ровно. «Полтавка» была известна повсюду. Все пели её песни. Мама очень любила «У сусида хата била». Петро подхватил из неё выражение «мое серденятко» (сердечко моё) которым щедро одаривал кого попало. Когда во время перерывов в работе холостяки собирались в овине, и, конечно, начинались рассказы о сексуальных подвигах, он выражал своё ироническое отношение, подводя итог каждому выступлению убийственным словом «побрехенька» (враньё). Он хорошо знал родную литературу и ориентировался в раскладе политических сил, которые в ту пору действовали в селе.
Нашим питанием и бельём занималась моя мама. О жаловании не было и речи, поскольку все мы жили за счёт усадьбы. В сущности, в этом и заключался истинный смысл существования Staatsgut Tynne. Кроме ночи с субботы на воскресенье тандем спал в конюшне и очень сдружился.
Когда Петро замыкал её тяжёлые ворота, кошмар немецкой Волыни рассеивался в тишине. Нас охватывало спокойствие безопасного логова. В углу, отделённом от лошадей тюками спрессованной соломы, между двумя постелями, на ящике, покрытом клеёнкой, под бревенчатый потолок било яркое пламя карбидки. Вся остальная конюшня была погружена в полумрак и тьму. Мы часто долго лежали молча, чтобы послушать музыку счастливой жизни: фырканье лошадей и святое шуршание, когда они жевали овёс.
В наших местах господствовало убеждение, что коли человек завшивел, он должен переночевать в конюшне. Пропитанная конской мочой конюшня считалась чем-то вроде дезинфекционной камеры. За такое лечение несколько бедолаг предлагали нам целый литр самогона.
Петро прогонял их с позором. Он даже не допускал мысли, что можно так осквернить конюшню, так унизить лошадей. Ничто здесь не принадлежало ему, а между тем он чувствовал себя ответственным за лошадей, за их дом и за наше тёплое логово, образ которого часто приходит ко мне во сне и наяву, словно сказка о вымоленной безопасности.
***
Однако, покой не был суждён нашему тандему. Украинская Повстанческая Армия, УПА, целью которой было перенятое у Советов, хотя и скорректированное национализмом, украинское «государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции», уже зимой 1943 года начала действовать, чтобы на этот раз, после этой войны, как Галицию, так и Волынь Польша уж не могла бы больше присоединить к своему наследию, что ей удалось после Первой мировой войны. Польское население на Волыни воспринималось на стеснительная помеха на пути к воплощению этого идеала.
Способ удаления помехи был прост. В серьёзной публицистике это называется этническими чистками. По сути, речь шла об убийствах, часто предваряемых изощрёнными пытками. Результат этой операции тоже должен был быть простым. Поляки, уцелевшие после резни, догадаются, что надо делать, и быстренько убегут за Буг.
У нас в окрестностях по-настоящему опасно стало только в расцвете весны 1943 года. Сначала господствовало такое обыкновение, порождённое желанием обмануть грех, что убивали только по ночам. Поэтому под вечер мы уезжали в Ровно, где отец нашёл для нас пристанище в семье Бжозовских. Мама снова собрала бельё в узелок, но икону оставила в усадьбе.
Дни в Staatsgut Tynne стали разнообразиться визитами советских партизан, которых интересовали только свиньи и домашняя птица. Немцы уже ничего не могли с этим поделать. Колония Третьего Рейха съёжилась до размеров города. Ну, может быть, в неё ещё входили усиленно охраняемые железнодорожные линии.
В усадьбе никто не работал. Все присваивали всё, что только можно было сдвинуть с места. Особенно съестные припасы. Может быть, поэтому отец каждое утро тащил нас в Тынне.
Но однажды запыхавшийся Петро подбежал к отцу, отвёл его в сторону и сказал, что в селе очень нехорошо. Было решено, что недостаточно ляхов напугать и выгнать на Вислу, они же всегда пытаются вернуться. Надо их убить, закопать в землю, и тогда уж они наверняка не вернутся.
Мы в чём были немедленно отправились в город, с единственным нашим настоящим достоянием: душой, ушедшей в пятки. В тот день я видел Петро в последний раз. Тандем перестал существовать.
***
Но зимой с 1942 на 1943 мы ещё жили в спокойствии и, в какой-то степени, праздности, почти не выезжая, обихаживая лошадей и чиня упряжь. Однажды в субботу Петро объявил, что ему не хочется идти домой, и мы заночевали в конюшне. Как-то нам пришло в голову, что стоит заглянуть на чердак старого особняка. В усадьбе пусто, так что никто нам не помешает. Мы не слишком понимали, зачем нам это, просто хорошо было оглядеться в этом закоулке.
На следующий день мы оказались в полумраке чердака, который явился нам сразу же как воплощение чудесного, хотя и исковерканного прошлого. Чего там только не было! Какие то изломанные столы и вполне целые стулья. Много плетёной мебели и портьер. Самые разные глиняные дежи и вполне приличный, хотя и хромой диван. Всюду груды официальных советских бланков и газет. Петро нашёл даже несколько украинских книг, то и дело восклицая:
- Иван Франко! Леся Украинка!
А я из-под нескольких неизвестных мне польских романов выкопал книгу в прекрасном переплёте, весьма изящную, похоже, единственное, что осталось от старинной усадебной библиотеки.
Это был четвёртый том собрания сочинений Мауриция Мохнацкого , с портретом автора, выпущенный в Познани в 1863 году издательством Яна Константы Жупанского. О Мохнацком я знал лишь то, что он участвовал в Ноябрьском Восстании (восстание 1830-31 года – прим. перев.). Это было, как бы сказать, любимое восстание отца, и дома, когда собирались гости, о нём часто рассуждали.
Так что я отложил чтение собрания сочинений Адама Мицкевича, которые Тадеуш Пини (Тадеуш Пини (1872 – 1937) – польский издатель, критик и историк литературы, прим. перев.) уместил в одном весьма несподручном томе, и с замиранием сердца ухватился за мою неожиданную находку, поскольку одна из статей в книге называлась «О характере завоеваний московских». Не стоит и объяснять, что отроческое чтение имеет стихийный характер. Автор меня не интересовал. Важно, что он написал, поэтому я не пропускал ни единой страницы.
Так в этой уютной, укромной конюшне, при свете слегка пованивавшей карбидки, я начал приобретать основательные политические знания о государстве, о котором сегодня в газетах и на телевидении пишут и говорят: наш Большой Сосед.
Сам Мауриций Мохнацкий, как оказалось, тоже кое-что значил для меня. Он не притупил моей ненависти к России, так сказать, по совокупности её действий, с особым учётом её нападения 17 сентября 1939 года, но мою бессильную ярость превратил уже навсегда в конкретное понимание. Это была ценное завоевание, потому что где-где, но в Польше уже пятнадцатилетний подросток должен взвалить на свои плечи грозное и мрачное зло: российское государство. Когда-то, сейчас и всегда.
Бандитское государство.
Мауриций Мохнацкий имел хорошо продуманные взгляды на сущность царской империи. Он был весьма начитанным публицистом, поэтому не колеблясь сослался на мнение мыслителя, известного проницательностью и аналитической трезвостью, хотя и не разделял его политических убеждений. Важным было меткое замечание о России.
Луи Габриэль виконт де Бональд, французский консерватор и контрреволюционер, успел порядочно разочароваться в достижениях людского племени. Впрочем, как и в самом человеке, который в естестве своём казался ему созданием основательно растленным. Без устали пытается слепить какое-то идеальное общество, хотя до сих пор не в состоянии установить хороших принципов управления государством. Может быть, потому, что Трансцендентность не соизволит помочь ему в этом благом предприятии. Ибо Господь явно из принципа не вмешивается в общественную жизнь. Лишённые совета Отца народы и общества в такой ситуации устраиваются согласно придуманным когда-то известным формам сосуществования личности и толпы. И все подчинены фундаментальному закону: как только рождается общество, вместе с ним появляется власть, гарант его организации и порядка.
Ежи Шацкий считал, что это были трюизмы, и в размышлениях над консервативной концепцией общественных связей советовал сосредоточиться скорее на описании деструктивного характера всяческих революций. Но в свете высказывания де Бональда о России трюизмы о власти не выглядели так уж банально. Потому что этот сторонник монархии считал, что в смутные времена общество почти инстинктивно встаёт на её защиту, правда – добавлял он – лишь тогда, когда монархическая власть позволяет человеку воплотить его истинную натуру, что бы это ни значило. С этой точки зрения Россия являлась де Бональду как исключительный политический казус, который должен был вызывать, по крайней мере, удивление.
Его высказывание Мохнацкий процитировал в оригинале, поскольку знал, что любой его читатель владеет французским. Сегодня лучше перевести этот фрагмент, ибо причитания по поводу утраты Францией интеллектуальной гегемонии в мире, увы, обоснованны.
Итак, де Бональд писал о России:
- Эта империя, расположенная на окраинах Европы и Азии, давит одновременно на обе эти части света, а со времён римлян никакая держава не выражает самоё себя с такой огромной силой. Это происходит в любом государстве, в котором правительство просвещённое, а народ – варварский, и которое чрезвычайную способность придавать силу закона своей движущей силе (moteur) соединяет с чрезмерной покорностью (своего) орудия.
Таким образом, автократическая власть в России может любому своему своеволию придать санкции закона, поскольку тамошнее общество, а точнее, тамошние подданные абсолютно безвольны и покорны. Этот феномен, по мнению де Бональда, был основой мощи российского государства.
Поскольку я тогда французского не знал, мне должно было хватить меткого комментария Мохнацкого:
- По своей сути, - не без остроумия продолжил он размышления де Бональда, - держава из двух лишь элементов составленная: из физической силы и из того, что эту силу в движение приводит. Москва, с избытком управляемая, не народом является, но страной, не обществом, но лишь инструментом.
Избыток управления характеризовал там власть автократическую, ничем не сдерживаемую до такой степени, что она могла избыток этот демонстрировать театральным образом. Часто доходила до самых диких капризов поскольку население России, которое не могло сформироваться в общество, позволяло смотреть на себя как на полезный инструмент
Мальчику, который четыре года назад изумлялся демонстрации этой силы, разрушившей его Родину, и наблюдал её экстатическую эйфорию в дни нашествия, слова эти явились верным описанием того, что он уже успел пережить в своей короткой жизни. Ибо Мохнацкий показал ему природу государство, которое хоть и звалось Советским Союзом, не без оснований осталось для поляков Россией.
***
В XIX веке огромная масса подданных царя в действительности слагалась из разных племён и народов, что сразу бросилось в глаза Адаму Мицкевичу при первой же прогулке по столице России, Петербурге. Положение Мохнацкого о России как стране неоднородной, состоящей из элементов противоречивых и слабо соединённых, было всеобщим наблюдением, Мохнацкий сформулировал его, раздражённый наивностью или лицемерием французской политической мысли, которая постоянно прибегала к явным фальсификациям. Он видел статистику и знал, что этнические русские составляли в ту пору всего 10% среди 50 миллионов подданных царя. Действительно, это была мешанина народов, племён и орд, ужасающее «географическое чудовище», распростёршееся между Швецией и Соединёнными Штатами, между Пруссией и императорским Китаем.
Государство лишь по виду принадлежало русским, поскольку сами русские были не способны оформиться в современный народ, который в тогдашней Европе как раз начал организовывать новый тип общности - гражданское общество. Россия как государственная структура в то время оказалась вне Европы, хотя и начала лезть туда, расталкивая всех, как обычно, горластая и наглая.
У Мохнацкого была достаточно стройная, романтическая теория национального самосознания. Когда природа, писал он, приходит к рефлексии от мёртвой материи «до момента, в котором сама себя понимает, человек и точно так же целый народ в мысли своей такое же познание самого себя в естестве своём иметь должен». Таким образом, существование народа определяла не «его осязаемая часть, являющаяся центром объединения и сообщности во всём», что составляет бытие политическое, но та часть, «что содержит в себе ткань невидимой жизни». Это пребывание в мысли, проявляющееся в исторических действиях, «свидетельствует, как народ себя в данном естестве своём себя понимает, как знает и понимает это естество». Ежи Шацкий заметил, что теория эта была модификацией «одиссеи духа» Фридриха Вильгельма Шеллинга, которую Мохнацкий попросту заменил одиссеей духа народа.
Это было время формирования современных народов Европы. Идеал человека был отождествлён с идеалом гражданина. «Общество, - читаем мы у Р.Р. Пальмера в «Man and Citizen», - стало восприниматься как орган, создаваемый личностями-гражданами; предполагается, что оно существует в силу добровольного их участия в своего рода договоре; их объединяет не раса, язык или история, но законы и права. Так понимаемый народ есть суверен, но отдельные его члены не суть подданные. Они граждане».
Процесс этот обошёл стороной Россию. Государство царей было структурой феодальной, обветшалое существование которого и хвастливую мощь гарантировал деспотизм. Здесь сувереном был аристократ. Так что Россия не могла выработать гражданское общество.
«Это была страна без общества», - написал Мохнацкий.
В конце концов, он лично пережил это расхождение между Россией и Европой. Жизнь его прошла в странной государственной структуре, в маленьком Царстве Польском, которое в 1815 году Венский Конгресс сделал как бы приложение к управляемой деспотом державе и снабдил, явно назло России, новейшими европейскими изобретениями: либеральной конституцией, свободными выборами, парламентом и свободной прессой. Царь Александр I, автократ до мозга костей, став королём этого крохотного государства, скоро занялся ликвидацией этих западных усовершенствований, о которых уже начали поговаривать его русские подданные. С самого начала существования этой политической эфемериды царизм начал демонтировать конституционное устройство монархии в Царстве и превращать его в российскую губернию. Россия не привыкла терпеть даже призрак гражданского общества, которое осознаёт себя в своей суверенности.
Основой могущества России был, по мнению Мохнацкого, деспотический строй. В этой стране правительство, действительно, располагало неограниченной властью. Общество его не контролировало. Порабощённое и не способное осознать своё положение, оно было готово исполнить все приказы власти и одобрить все её действия.
«Не географическая обширность, - писал Мохнацкий, - не население, но правительство стало московским колоссом. Только деспотизм обуславливает громадность этой страны. Кроме этой странной оригинальной институции в государстве царей всё маленькое и слабое». Всё было там недоразвитое, разъеденное унынием и коррупцией. Даже администрация, вообще-то, безотказная в качестве инструмента надзора, направленная, главным образом, на вылавливание проявлений самостоятельной мысли, погрязла в тех же самых грехах. Это был деспотизм опасный, ибо он был мыслящим, хитрым и упорным.
«Старятся абсолютистские строи, - читаем мы в статье от 6 апреля 1833 года, - австрийский и прусский, конституционные королевства почти прогнили сразу же после рождения своего; анархия бездействует, массы всё ещё не мыслят; один царь около полюса обладает непреклонной волей, корысть свою хорошо понимает. Преграды его не останавливают, лишь задерживают на минуту». У него хитрые дипломаты, которые справедливо в грош не ставят спесивых политиков Запада. «У Москвы умелая дипломатия с меньшими в этом смысле претензиями, чем у старой и хитрой австрийской канцелярии». Российский «кабинет всю мудрость свою вкладывает в иностранные отношения». И добивается достойных восхищения успехов.
Первоосновой российского деспотизма, по мнению Мохнацкого, был царь. «На одну минуту отнимем у России её самодержавие, и в тот же момент она перестанет быть политическим субъектом. Только единовластие и всевластие царизма как фундаментальный закон, истоками своими и организацией уходящий в татарские времена, потому что татарскими ханами он был установлен, удерживает в повиновении это географическое чудовище».
С Ивана Грозного, читаем мы в статье «О характере завоеваний московских» от 24 апреля 1933 года, всё в России «стало собственностью царя, чего бы только совокупность жителей страны не могло назвать своей собственностью. Что в других местах является общественным союзом или народом хотя бы и самым диким, как бы осело во власти и в правительство обратилось. Если бы нас просили, что такое Москва без царизма, мы не могли бы разрешить эту трудную загадку. Москва – это царь, царь – это Москва».
Всякое движение, совершающееся внутри империи, должно служить царизму. Для русских это священное установление. Он составляет бронзовый фундамент государства и в то же время является чем-то вроде чёрной дыры, во мраке которой теряется всякий свет, приходящий снаружи. «Российский абсолютизм не преходящ, как сталось бы в другом каком месте с установлением, не имеющим ничего общего с бытием народа; отмена которого могла бы стать благодеянием». Кому в приступе наивности покажется, что вот пришёл час и начался процесс «отмены» царизма, тому очень быстро сама Россия выбьет эту глупость из головы.
Царь вцепился в Россию, как репей в собачий хвост. Царизм – это гарантия её существования. «Это мощное орудие завоеваний является также единственным средством сохранения. По этой причине дворцовые революции Москве не вредят. Задушат Павла, будет Пётр. И т.д. Но по той же самой причине революция, имеющая своей целью ограничение воли правителя, революция политическая, одним словом, изменение природы правления, немедленно разбила бы колосса на мелкие атомы». Россия перестала бы существовать.
И потому настоящий русский патриот, если даже он соприкоснулся с западными миазмами, если даже подумал, что лучшей гарантией его общества была бы не столько воля царя, сколько записанные в конституции законы, в конце концов, пред своей властью капитулировал. «Таким образом, - заканчивал своё рассуждение Мохнацкий, - в России патриотизм – это рабство».
***
Никто не выбирает себе Родину, но ведь часто вместе с Родиной на человека падает мучительное проклятие. Во всяком случае, рассуждение Мохнацкого позволило мне тогда понять причину странного раздвоения сознания женатых и имеющих детей военных и чиновников, свезённых из глубина СССР на Кресы после 17 сентября 1939, которые – когда уже стали нашими соседями – дома, в укромных уголках шёпотом жаловались на лагеря, где умирали их близкие, на своё убогое житьё, и в то же время с воодушевлением восхваляли Сталина, созданное им государство и были весьма горды последними военными трофеями своей страны.
Жизненно важной чертой государства российского считал Мохнацкий готовность к экспансии, давление наружу. «Царизм бездействующим быть не может, поскольку не нуждается в том, чтобы что-то приобретать внутри, поэтому лишь извне действовать может. Эта деятельность московского абсолютизма проявляется в непрестанных завоеваниях». «В этом есть даже своего рода вдохновение, какое всегда рождает ощущение чрезвычайной материальной силы в этом всевластии царей, которое непрестанно выходит из границ; в этой особой конструкции правления, которое, чтобы не пасть, постоянно должно одурять москалей грабежами, как наркотическим питьём; в этом, наконец, политической прожорливости России, которая всё вокруг себя пожрать силится». Из этого следует, что компенсацией за рабское положение была для подданных царя гордость за могущество государства и удовлетворение от того, что все сопредельные народы запуганы. Впрочем, слово компенсация тут, кажется, не к месту, большинство жителей России понятия не имели, каких ценностей они лишены. Они пребывали в чёрной дыре деспотизма. Немногочисленную элиту, просвещённую идеями, которыми жил Запад, правительство быстро вылавливало и безжалостно уничтожало.
Захваты московские, - продолжал Мохнацкий, - не похожи на римские или германские покорения. Они не исходят из страстного желания богатства или вспышки безумной ненависти. Их всегда организует правительство, поскольку тем или иным образом они приносят ему прибыль. Впрочем, взрыв отодвигал в тень мысль о бесплодности пошлости жизни в этом тщательно замкнутом резервате. Организация московских нашествий была достаточно оригинальна и самобытна. Территориальные приобретения Москва не всегда присваивала при помощи покорения и войны. «Всегда сначала были они кражей, совершённой без боя».
Стандартная аннексия проходила, как правило, в два этапа, в две, как писал Мохнацкий, эпохи. «В первой они подстрекают, закладывают мины внутри соседней страны, которою желают овладеть. Это время невидимого влияния, подкупа, обещаний. В другой они выступают явно с интервенцией: сначала защищают, потом покровительствуют несчастному соседу, всегда по его собственному требованию».
Эти слова произвели тогда на меня большое впечатление. В 1940 года в польских домах нервно комментировали русский способ аннексии Литвы, Латвии и Эстонии. Сначала они выделили из местных группу коммунистов, подкупили обещанием власти, чтобы, в конце концов, по требованию народа войти и освободить от мук независимости. Каждому из трёх народов была дарована фиктивная государственность, и все они были поглощены колониальным государством, называвшемся на этот раз федерацией республик. Всё было именно так, как это описал Мохнацкий. «Интриговать, подстрекать, подкупать, чтобы взять, а потом биться на смерть, чтобы не утратить того, что однажды было взято, это героизм царизма, это обыкновение московской алчности».
При карбидной лампе, ночью, в конюшне бывшего имения пани Бонкович, превращённого сначала в совхоз, а потом в Staatsgut, я получил, наконец, фундаментальное знание о чертах государства, которое давным-давно является нашим Большим Соседом. Черты эти сформировали его самосознание. Лишённая их Россия перестала бы быть Россией. Историческое время, которое я сумел пережить, подтверждало достаточно очевидное суждение, что наш Большой Сосед в своей сущности и в своём образе действий остаётся неизменен.
Прежде, чем в феврале 1940 года начали вывозить в Сибирь, постоянной темой вечерних бесед в польских домах на Волыни была ситуация во Франции и Англии. Всё время на них возлагали надежды, а на кого же ещё было их возлагать. Острова не вызывали опасений. Их защищало море. Боялись за Францию, хотя страхи несколько сглаживала унаследованная довоенная идиотская вера в линию Мажино. Этот оборонный вал был якобы такой современный и так великолепно оборудован, что немцы, если бы попытались форсировать его, поломали бы на нём зубы. Более трезвые собеседники немедленно начали каркать, что ведь могут его обойти. Никто не сомневался, что они не колеблясь растопчут и Голландию, и Бельгию.
Для меня это было время изучения атласа. Отец всегда следил за моими интересами, поэтому когда я его как-то спросил, где же, в конце концов, находится эта Укаяли, над которой поют рыбы, и что такое созвездие Ориона, на другой же день купил великолепный атлас мира со звёздными картами северного и южного полушария. И вот я уставился в земли на Рейне, и выходило, что тогдашний вариант знаменитой дилеммы «войдут – не войдут» перестал иметь какой-либо смысл. Депортации в Казахстан и разгром Франции сократили вечерние беседы до одной темы: выжить. Не известно как, но известно, что любой ценой надо выжить. Здесь или там. За Уралом, в степях, за морем и везде.
Народ, живущий по соседству с наглой империей, быстро становится чемпионом подозрительности. Сама по себе подозрительность паскудно двусмысленна. С одной стороны, она учит предусмотрительности, которая защищает нас от наивности и опасных ошибок. Во всяком случае, принуждает к мышлению и ограждает от хитрости манипуляторов и обманщиков всех мастей. С другой же стороны, отравляет разум страхом перед общением с окружающими. Парализует мысль, которая предпочитает не рисковать и выбирает неподвижность. Уговаривает отказаться от познавания. И начинается беспомощное прозябание.
Такая запутанная в своей сущности подозрительность по отношение к государствам Запада появилась в вечерних разговорах сразу после нападения Германии на Россию., 22 июня 1941 года. Какое решение они теперь примут о преступлении, которое в 1939 году совершил против Польши союзник гитлеровской Германии, а теперь один из главных участников их коалиции? Как это у нас принято, проблема рассматривалась в этических категориях, а известные в ту пору факты, из которых возникло застарелое подозрение, утвердило наших отцов в убеждении, что нас снова предадут и снова продадут.
***
В своих статьях Мохнацкий старался избежать морализаторства, но ему это не всегда удавалось. Французское восхищение Россией, которое дало о себе знать вместе с возникновением июльской монархии в 1830 году, он счёл политической ошибкой, которая не могла быть объяснена невежеством общественного мнения. Немногое было известно о действительной системе правления в государстве царей. Об отношениях между населением и властью рассказывали всякую чепуху. Это началось ещё в XVII веке, когда группа энциклопедистов, пламя просвещения и светильник разума, Вольтер, Даламбер и Дидро, начали «расхваливать Франции Россию». Эти «философы монархию Петра и Екатерины Европе и цивилизации за образец ставили. Французское правительство, как видно, и сегодня следует их мнению».
Польша виделась им возмутительным свидетельством цивилизационного коллапса и варварской нетерпимости, страной обезумевшей анархии. Она явно была не способна организовать для себя разумно управляемое государство. Вследствие чего была справедливо уничтожена. Её земли, наконец, перешли под управление монархов просвещённых и успешных.
Мохнацкий был далёк от скрывания религиозной ожесточённости, отсталости и политческой глупости нашей шляхты, но он не считал, что этим можно было обосновать союз для разбоя и раздела суверенной страны. Причины этого возмущения коренились не в этике, но в основных законах сосуществования государств. Правда, омерзение там тоже имело место. Ибо Вольтер так горячо выражал необузданное восхищение Россией, что можно было перепутать лесть с самоуничижением.
«Говорят, - писал он прусскому королю Фридриху 21 августа 1771 года, - что мои любимые русские побиты турками. Я в отчаянии и умоляю Ваше Величество утешить меня». «Вещь постыдная и безумная, - сообщал он царице Екатерине 6 июля 1771 года, - чтобы тридцать молокососов из моей страны нагло собирались на войну с Вами (речь идёт о военной помощи генерала Дюморье барским конфедератам – прим. автора), в то время, как двести тысяч татар покидают Мустафу, чтобы служит Вам. Итак, татары блистают культурой, а французы превратились в скифов. Извольте заметить, Мадам, что я вовсе не Velche. Я швейцарец. А если бы был моложе, то сделался бы московитом».
«Velche», хорошо известное ещё Шопену, это французская калька немецкого выражения «Welsch», которым в первом отечестве царицы презрительно отзывались о французах.
Политические оценки Мохнацкого не всегда были верными, но диагноз польской подозрительности по отношению к Западу был, скорее, точным. «Не отважиться признать независимость народа польского, в границах, указанных сеймовым манифестом (во время ноябрьского восстания), дрожать перед царём в то время, когда он был столь близок к падению, когда кровь польская текла столь обильно, было чем-то худшим, нежели низость. Это было величайшей политической неразумностью. Польша и на этот раз погибла частью собственными ошибками, частью островным равнодушием Англии и непросвещённым эгоизмом Запада, где внутренняя политика со времён падения Наполеона не позволила политике внешней совершить никакого прогресса». Убеждение, что такие поступки западных государств были неразумны, напоминает лишь вариант горьких польских жалоб. Но суждение о западном невежестве было обоснованным.
Образ государства царей на Западе – читаем мы в статье «Дорога из Москвы в Восточную Индию» от 24 августа 1832 года – была сформирована двумя факторами. Первым была свободная пресса или частные газеты, кто что предпочитает. В сущности, речь шла о битвах, организованных Россией с того момента, когда она поняла, что общественное мнение в этих странах имеет некоторое влияние на правительство.
Мохнацкий описал этот механизм на примере Англии. «Ни в одном, может быть, столичном городе Москва не имеет столько платных писателей, сколько в Лондоне. Со времени июльской революции (1830 года) влияние это в Париже, может быть, увеличилось, но на общественное мнение действует не столь эффективно, нежели в Англии. Одним из фокусов Москвы было всегда нейтрализовать те органы мнения, которые пытаются возвестить миру могущество и стремления этой державы. Кабинет Царского Села, полу-азиатский, полу-европейский, любит тихие завоевания. Но уж что взял, того не уронит. Заслуживает внимания то, что со времён Петра I ни фута квадратного москали не потеряли». Эти платные писатели и публицисты, как правило, весьма влиятельные, были попросту агентами Москвы. В то время Москве нужно было влияние на правительство, чтобы оно приняло решение о Ближнем Востоке, которое подготовило бы почву для предполагавшихся военных действий России в этих горячих точках. Во Франции выступления такого типа, действительно, принесло не столь хорошие результаты но эту неудачу Россия возместила большим влиянием на парижскую полицию.
***
Другим фактором была также пресса, на этот раз, однако, государственная. Мохнацкий проанализировал образ России, пропагандируемый в полуофициальном органе французского правительства "Journal des Débats», или – как он сам перевёл – в «Газете Заседаний». Правительство создало этот образ для нужд своей текущей политики, обосновывая этим некоторые свои действия в сфере французско-российских отношений. Этот старательно подготовленный, как сейчас говорится, имидж Россия имел, по мнению Мохнацкого, характер сказки, настолько же смешной, насколько и ужасной. «Если Франция такое представление о Москве имеет, то горе Европе, в особенности горе самой Франции».
В сказке этой империя царей представлялась как государство цельное, объединённое «широкой и глубокой народностью», «une nationalité vaste et profonde» «братством и общностью рода и духа между шестьюдесятью миллионами». «Эта общность рода, веры и духа, - уверял «Journal des Débats», - «велит политикам и военным уважать этот безмерный укреплённый лагерь, охватывающий девятую часть суши, где правительство любит цивилизацию, поскольку ещё не имеет причин опасаться её, и на семьсот тысяч квадратных миль изливает благодеяния мирного покоя, неизвестного до сих пор в анналах мира». Поскольку ни единое слово не отвечало действительности, Мохнацкий не хотел «подробно объяснять «Газетой Заседаний» вещи хорошо известные. Где политика накручивает статистику и с полюса берёт своё вдохновение, когда пишет о восточных делах, там ли указывать на статистические ошибки».
Целью такого рода текстов было укрепление образа России как огромной силы. Французы должны были пребывать в убеждении, что «это сильный и счастливый народ, перед которым ничто не устоит». Это была основа тогдашней французской политики по отношению к России. Она оправдывала готовность идти на соглашение любой ценой и склонность к капитуляции перед требованиями царизма ценой нескольких лживых слов, предохраняющих Великую Францию от стыда. Таков был смысл «тесного союза Франции с Россией». «Россия никем задета быть не может, ne peut e^tre entamée par personne, разве что возникнут (какие-то) коалиции. И это первая выгода. Россия угрожает всем. И это выгода вторая».
Такую позицию – писал Мохнацкий в статье «О характере завоеваний московских» - навязывала вера в «фатализм московского могущества». Хотя Франция сама была державой, и ей правительство не допускало мысли, что Россия могла бы угрожать её существованию, но всё же предпочитала слишком много не воображать, как - с позволения сказать – Наполеон в 1812 году. Но всем малым и слабым народам советовала подчиниться могуществу царского колосса. «Кому не повезёт, - писал Мохнацкий, - тому Франция немедленно говорит с поспешностью, предваряющей его политическую гибель: «Ты должен погибнуть, спасенья нет!».
Фатализм московского могущества, в «ничем неограниченный рост» которой верило французское правительство, породил западную политику позволения России наглых требований и мелких скандалов. «Петербургский кабинет, - писал Мохнацкий, - на протяжении ста лет не то делал, что мог, а то, что ему другие неосмотрительно делать позволяли».
Мохнацкий имел довольно мрачное мнение об отношениях Европы к русским попыткам контролировать и осаждать её. Причины слабости Запада в этой мере были для него ясны.
До тех пор революционные движения были разбросаны. Не умели объединиться. Не умели действовать систематически. Не отваживались перейти от возмущения к атаке. Поэтому «в теле Европы всё ещё сидит умершее и однако всемогущее установление, которое с тем, что давно ушло, остаётся в дружеском согласии; которое тому, что агонизирует, умереть не позволяет; которое неестественным и неугодным Богу союзом соединяет жизнь со смертью». Это Союз Королей Европы, которые, как братья, вдоль и поперёк континента подали друг другу руки. «Всегда готовые к бою, всегда и всюду блюдут свою выгоду и ради этой выгоды всем пожертвуют, даже алчностью, гордостью и самолюбием. Опасение перед общим врагом годами успешно обуздывает страсти, свойственные всем разбойникам из-за неравного дележа добычи». Общий интерес монархов лишь упрочил принцип политики не раздражать российского колосса и позволять ему угрожать и запугивать.
В конюшне, при карбидной лампе, слушая фырканье лошадей, жующих овёс, я приобщился к банальному польскому политическому комплексу: убеждение о вечной проституции королей Европы с безмерно алчной Россией. Правда, позже, прожив как бы там ни было несколько десятков лет, я часто начинал сомневаться, на самом ли деле это комплекс. Потому что это всё более выглядело трезвым наблюдением.
Неизменная сущность России
Ян Кухажевский был прав. Мохнацкий писал эти статьи в те годы, когда наш народ боролся за своё существование, и польско-русский конфликт являлся нам как проникнутая мрачным трагизмом историческая драма двух народов. Однако он несправедливо укорял его тем, что он отодвинул это несчастье в тень вечных вопросов; что вместо того, чтобы рассмотреть программы и расчёты конкретных людей, он занимался абстрактными миофологемами.
Потому что, в сущности, Мохнацкий не растворил эту драму во мгле национальной метафизики. Он сознавал, что конфликт этот укоренён в политических ценностях, которые зародились в исторически оформленных разнообразных государственных структурах обоих народов, что они сами себе эти политические институты создали и в течение нескольких веков в них существовали. Это началось в глуби веков, хотя лишь в XVI веке конфликт жёстко проявился. Мне давно хотелось написать исследование переписки между царём Иваном грозным и королём Стефаном Баторием, поскольку в самом языке этих монархов открылись внутренности, и наши, и нашего Большого Соседа.
Мохнацкий писал свои статьи, поражённый возможностью гибели, ибо он знал неумолимый принцип московской политики, несмотря на трудности воплощаемой в жизнь последовательно и с несгибаемым упорством. Поццо ди Борго, корсиканец, на протяжении многих лет российский посол в Париже, которого Шимон Аскенази считал одним из злейших наших врагов, презрительно прозванный «жирным Поццо», во время обсуждения польского вопроса на Венском конгрессе подал царю Александру I меморандум, в котором начертал многолетние планы политики империи по отношению к Польше:
«Уничтожение Польши как политической силы продолжалось почти всю историю России. Система завоеваний в Турции была только системой территориальных приобретений, и осмелюсь сказать, второстепенных по сравнению с тем, что было сделано на западной границе государства. Главной целью покорения Польши было обеспечение российскому народу многочисленных связей с остальной Европой и открытие ему обширного поля и вместе с тем более благородной и более известной арены, на которой он мог бы развернуть свои силы и таланта, удовлетворять своей гордости, своим страстям и интересам. Ведь именно для того, чтобы погрузить Россию в варварство на веки и сделать из неё державу исключительно азиатскую, Наполеон намеревался возродить Польшу. Ведь для обеспечения Россия достойного положения среди наиболее цивилизованных народов Европы предшественники Вашего Императорского Величества желали завоеваний, которые непременно должны были связывать Россию с этими народами».
Мохнацкий проник не только в сущность московского единовластия, не только в методы завоевания сопредельных стран, если хотите, ближней заграницы. Он также разглядел далеко идущий план, в котором польское государство воспринималось как помеха, задерживающая империю в её марше к Европе, конченой целью этого плана было оказаться в избранном кругу величайших держав мира.
Кухажевский этого не заметил. Он обкорнал мысль Мохнацкого до памфлета, который родился из бессилия униженного народа. Он писал свою книгу («Мауриций Мохнацкий») в 1910 году, уже после революции 1905 года, после великого разгрома России в войне с Японией, когда ожила правда, лелеемая в Европе со времён «Руин, или Размышлений о революциях империй» (1791 Франсуа де Вольнея, что все империи подчиняются историческим законам: зарождаются, какое-то время существуют и, в конце концов, погибают. Поэтому Кухажевскому не понравился пессимистический образ России как вечного зла, которое постоянно отравляет историю Европы. Поскольку всё меняется, Кухажевский верил в преображение России. Веру эту он утратил в 1917 году.
Да, конечно, царизм перестал существовать, но ведь появился Советский Союз. Да, конечно, Советский Союз тоже рассыпался в развалинах, но появилась «самобытная российская демократия» Ельцина, впрочем, затем только, чтобы наконец настала «исконная», собственная, древняя российская автократия Путина.
Даже учёные мудрецы на Западе поняли, что в России важнее непрерывность, нежели перемены. Государство российское не утратило своих конституциональных черт, о которых писал Мохнацкий. Они остались нерушимыми, но их приспособили к новым условиям и новым политическим играм с Западом. Они продолжают быть тем «мотором», о котором писал де Бональд, придающим жизнеспособность империи, которая сейчас старается успокоить свои расшатанные нервы. Россия продолжает действовать по принципам, составляющим основу её самосознания. Охотно и дерзко. О действиях этих ты можешь прочитать на первых страницах газет почти каждую неделю.
***
После каждого сна, в котором является конюшня в Staatsgut Tynne, меня охватывают мысли, вызванные чтением Мохнацкого. Сущность России неизменна. Когда исторические обстоятельства начинают угрожать инстинкту единовластия, Россия начинает утрачивать своё самосознание и перестаёт понимать сама себя.
Кажется, не нужно напоминать о лавине газетных сообщений, что в Москве снова есть царь и называется он президент. Когда представляется случай построить гражданское общество, организовать свободное сообщество, контролирующее действия правительственных институтов, у России случаются конвульсии. Когда надо считаться с Западом, который время от времени несет вздор о таких своих политических изобретениях, как демократия или права человека, российское правительство начинает суетиться вокруг таких своих муляжей, как конституция, парламент или политические партии. О реальном ментальном преображении своего собственного общества мои русские друзья до сих пор разговаривают на своих легендарных кухнях. Там, куда всегда прячется от опасности то, человеческое, что в них есть. Когда из-за конъюнктурной болтовни о европейском братстве наш Большой Сосед не мог подтвердить своё имперское могущество каким-нибудь территориальным завоеванием, он был близок к апоплексии, поскольку его самосознание сделалось тяжело больным.
Но, кажется, достаточно. Что миновало, то всё ещё существует. Что вертится, то вертится. Карбидная лампа бьёт ярким светом, а кони с аппетитом жуют овёс
)





 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием