Так норвежцы эвакуировали Пирамиду, тысяча русских и украинских шахтёров, женщин из обслуги, инженеров, директоров и детей были доставлены в Мурманск и там высажены на набережную великой страны, которая тогда уже существовала только на карте, и никто, наверняка, ими не заинтересовался, потому что должно было пройти ещё два года прежде, чем Владимир Владимирович Путин вернул России государство – во всяком случае, так пишет профессор Штюрмер в своей биографии президента-КГБешника. А в Пирамиде остались книги на столах в читальном зале, с закладками между страниц. Стаканы в баре, нестиранные носки у постели, недописанное письмо и шахматная доска с партией, которая остановилась на четвёртом ходу дебюта.
Вот это и есть правда – брошенный город, эти стаканы, письма и шахматная доска. Но всё остальное – необязательно. История хорошая, я слышал её от одного старого полярника два года тому назад в Лонгирбайене, вот только всё указывает на то, что это выдумка. Может, и были какие-то трудности со снабжением, конечно, но всё-таки голодных детей не было, и, скорее всего, не было норвежских кораблей, потому что русские – хотя и в страшной спешке – эвакуировались сами. Осталась маленькая группа, у них были бульдозеры, взрывчатые материалы, и они разрушали всё, что им как раз хотелось разрушить в этом свежем трупе города.
Это как в «Не надо говорить громко» Юзефа Мацкевича, когда главный герой, взволнованный, рассказывает историю, которой был свидетелем – он видел, как немецкий танкист остановил свою машину, со скрежетом гусениц на мостовой, чтобы не переехать белку, которая выбежала на дорогу. И слушатели этой истории, польские патриоты, делают замечание, что так рассказывать не годится, пусть это будет польский танк, американский или, в крайнем случае, даже советский, но никак он не может быть немецким. Главный герой удивляется своим собеседникам, как перс Монтескье, и робко замечает, что он это видел своими глазами, и ничего не может поделать с тем, что танк был немецкий. Его журят: это правда единичная, отрывочная, субъективная, а объективная правда совсем другая.
Именно такова, по-гегелевски объективна, согласна с духом времени правда истории о голодных детях и норвежской эвакуации. Именно такая история должна была произойти во времена ельцинской смуты, чтобы выразить собою дух времени – вот только, кажется, кто-то забыл об этом, и на самом деле произошла история столь же драматичная, свидетельством чего является видимая спешка, в какой покидали Пирамиду, но всё-таки не такая эффектная.
И всё-таки, входя в Барнецбург, невозможно не думать об этой брошенной Пирамиде, особенно если в течение последних нескольких дней ты шёл мимо развалин русских строений, брошенных ещё раньше – но без этой спешки времён смуты. Там, в заливе Клокбай, в Груманте, русские, точнее, советы, свои строения бросили в результате экономических расчётов – легкодоступные месторождения угля исчерпались, поэтому они забрали всё, что можно было забрать, часть построек взорвали и переехали дальше, где уголь добывать было легче, отставив после себя ручьи, красноватые от ржавеющего в их верховьях металлолома.
Итак, мы прошли мимо указателя с надписью «Баренцбург», я разрядил винтовку и открыл замок

согласно обычаю, чтобы каждый из жителей мог видеть, что оружие безопасно. Однако, никого не было, мы шли долго по местности, которая напоминала заводское предместье – мимо открытых, разрушающихся ангаров, в которых поместилась бы эскадра вертолётов, мимо заброшенных бараков неизвестного предназначения, между горами мусора, маленьких, как гнутые гвозди, и огромных, как полдома, проржавевших или бетонных, с торчащими прутьями арматуры. Мы прошли мимо брошенной теплицы. На дверях много лет назад кто-то приклеил объявление для туристов, на английском языке, что in the greenhouse никто по-английски не говорит, так что если кто-то хочет посетить greenhouse, то он должен пойти в гостиницу

и попросить экскурсовода.
Сегодня эти двери забиты досками, окна и стеклянная крыша разбиты, а сквозь них видно, что внутри, на нетронутых колышках скукожились иссохшие кусты помидоров, а на протянутых под стеклянной крышей шнурах висят промёрзшие трупы вьющихся растений, как серо-бурые канаты. Дальше пустые курятники и коровники. Даже пекарня уже не работает, все продукты, так же, как и в норвежском Лонгирбайене, привозят с континента – потому что ни к чему стараться, если ежедневно, а то и чаще, приземляется в
Лонгирбайене самолёт. Дальше – облупленные стены с пятнистой коровой, другие – с полями пшеницы где-то на великорусских равнинах, а ещё со стволами берёз. И всё пусто и брошено – но в одном месте, на обложенном минеральной ватой и досками теплопроводе мы замечаем кота.

Норвежцы запретили содержать кошек на всём Свальбарде, потому что они якобы пожирают птенцов. Этот котяра, серый и толстый. Наверняка, сожрал всех птенцов и, кажется, думать не думает о приказе, отданном самим сиссельманом. Без людей он не пережил бы зиму, так что, наверняка, о нём заботятся русские или украинцы, и точно так же с презрением пожимают плечами при мысли о чиновнике, которому кажется, что опубликованным в каком-то бюллетене законов запрете он может отнять кошачье общество у людей, приговорённых к полярной ночи, и всё из-за чего-то, столь тривиального, как птичьи птенцы. А к чайкам, крачкам, глупышам, гагаркам и люрикам, которые в сезон тысячами кружат над клифами, поднимая невероятный галдёж, ни на что в мире не похожий, шпицбергенские шахтёры, наверняка, не питают столь тёплых чувств, как к этому серому кошаку, который любит полярной ночью греться на чьих-то коленях.
И наконец, мы встречаем двух русских женщин. Они выглядят странно, идут под руку в своих туфельках на высоких каблуках и отделанных мехом элегантных курточках. А мы, в тяжёлых, грязных ботинках, специальных куртках, с лыжными палками в руках и оружием на плечах. И дамы смеются, одна постарше, другая помоложе, над этими палками, на которые мы на ходу опираемся.
- Кто у вас лыжи украл? – спрашивают они.
Мы смеёмся вместе с ними и идём дальше.
В гостинице цены норвежские, обслуживание русское, мы пьём колу и пиво, едим не слишком вкусные пельмени, даже без борща, в большом телевизоре полуобнажённые девушки, на которых бижутерии больше, чем одежды, поют и выставляют попки в серебряных «Порше», «Феррари» и «Ламборджини», важно следующих по улицам Москвы. Тепло.
А неподалёку от гостиницы стоит старое советское консульство.

На снимке в моём старом альбоме оно зелёное, ухоженное, соцреалистично классическое, в окнах занавесочки, оно выглядит так, что если бы хоть чуточку больше изящества да не развевайся на крыше красный флаг с серпом и молотом, то это могло бы быть скромное посольство маленькой страны, где-то в тихом квартале Вены или Варшавы. Сейчас, однако, всё изменилось - здание стоит брошенное, лестница развалилась. Пугают пустые скелеты окон, рамы висят на вырванных петлях, двери забиты досками.
Но за брошенным советским консульством стоит новое российское консульство. Кажется, это единственное здание, построенное здесь после распада Советского Союза. За исключением церковки, о которой чуть позже, потому что она и находится чуть дальше. Ограждение из заострённых прутьев, как будто для того, чтобы ставить рядом с ним дрожки, на ограждении золотые двуглавые орлы, а само здание современное. Моя жена, архитектор, утверждает, что архитектура очень даже приличная, если говорить о форме, так же, как и несколько других похожих строений с закруглёнными углами, построенными, наверняка, где-то на переломе восьмидесятых и девяностых. Но на одно жилое здание приходится три заброшенных, пугающих выбитыми окнами – потому что город был построен для трёх тысяч жителей, а сейчас в нём - едва ли насчитаешь шестьсот.
Их дело – выжить, их задача – сохранить непрерывность российского присутствия на Шпицбергене. Шахта, говорят, не действует, горняки занимаются консервацией оборудования, зданий и машин. Церквушка восьмигранная, как молельни поморов-старообрядцев,
http://twardoch.pl/molenna.jpg
которые на Грумант – так они называли Свальбард – плавали ещё в XVII веке, охотиться на моржей, медведей и лис. Эта маленькая церковка в действительности не является сакральным зданием, но памятником жертвам авиакатастрофы 1996 года. Православный священник приезжает иногда в Баренцбург, но литургию совершает в другом месте, а не в этой псевдо-церкви.
Вот и всё. Мы выходим из гостиницы – это смешно, хотя прошло всего-то две недели, но мы уже соскучились по таким достижениям цивилизации, как унитаз в туалете, кола в банке и пиво. Я беру пару банок с собой, для друзей, которые остались в лагере, больные, мы оплачиваем кошмарный счёт, украинка в баре смотрит на нас с весёлым презрением. Её чувства понятны, её платят, чтобы она жила в этом страшном месте, мы заплатили, чтобы сюда приехать, да ещё прошли всю дорогу из Лонгиера пешком, мёрзли в палатках, белой ночью несли вахту у костра из страха перед медведем, всё, что даме за стойкой бара и в голову прийти не может, потому что, в сущности, это разновидность декадентского извращения, я пишу это совершенно серьёзно, вовсе не кокетничая. Это же не аскетизм, для аскетизма всё это слишком дорого обходится. .
Вот и всё. Я не делаю выводов, нету выводов. Концептуализация социальной реальности, или человеческой вообще, всегда является придумыванием этой реальности, а я выдумывать не хочу. За тем, что я видел, ничего не скрывается, нет знаков времени, есть только обширный универсум непознаваемого.
Вот и всё. Мы возвращаемся. В шпицбергенской гахете «Свабальд Постен»
http://www.svalbardposten.no/
у которой редакция здесь, но печатается она в Тромсё и на самолёте доставляется сюда, много пишут о русских из Барнецберга. То они вертолёты отдают в аренду в коммерческих целях, что строго запрещено, то птиц распугивают. Ещё о том, что собрание баренцбургского Музея Поморов привезли в Лонгирбайен, чтобы выставить на какое-то время в норвежском музее. А ещё раньше в Баренцбурге прошёл кинофестиваль, показывали норвежского «Эллинга», это ужасно забавно.
Вот и всё. Я думаю о русско-татарской девочке, которая прожила тринадцать месяцев на Свабальде, и её маленькое грустное тело лежит сейчас в вечной мерзлоте








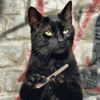

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием