http://www.polityka.pl/polityka/prin......8&page=text
Marcin Zaremba
Niemiecka dżuma, sowiecka grypa
Мартин Заремба
Немецкая чума, советский грипп
Каковы были настроения и позиции поляков 65 лет назад, 22 июля 1944 года, когда власти, установленные в Польше Кремлём, провозгласили свой манифест?
Прежде, чем Стефан Киселевский напал на собрании литераторов в 1968 на «диктатуру невежд», он для начала подвёл итог празднику 22 Июля:
- Парады, демонстрации, салюты. Но никто не помнит, что июльский Манифест – нецензурное издание. Его нигде не печатают. Цензура не пропустила бы.
И он был прав. Манифест Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО) – датированный 22 июля 1944 года – редко использовался для легитимизации режима.

1944 год, польские и советские войска на восточных землях. Для одних – освободители, для других – новые оккупанты.
Причиной был тот факт, что Манифест, называемый июльским, был лишён каких-либо коммунистических элементов, в нём были обещания, за напоминание о которых в Народной Польше можно было попасть в тюрьму. Он объявлял о выборах с пятью прилагательными, которые никогда потом таковыми не были. Торжественно клялся вернуть все демократические свободы. Декларировал свободу объединения в политические партии и профсоюзы, свободу прессы. Однако право объединяться в свободные профсоюзы рабочие завоевали только в августе 1980 года. Если же говорить об остальных гражданских свободах, то поляки могли наслаждаться ими только с 1989 года. Согласно Манифесту, частная инициатива, «усиливающая пульс экономической жизни», должна была получить поддержку государства, но не прошло и трёх лет, как началась так называемая битва за торговлю, с последствиями которой поляки боролись вплоть до введения плана Бальцеровича.
Манифест обещал отмену обязательных поставок, «отнимавших у крестьянина его кровное добро», а также введение натуральной повинности только «в военное время». Ликвидации обязательных поставок крестьянам пришлось ждать до самого 1972 года.
Говоря современным языком, Манифест ПКНО, кроме единственного фрагмента, в котором говорилось о союзе с СССР, оказался большим политическим мошенничеством. Он ничем особенным не отличался от того, что предлагали другие политические движения в Польше и в эмиграции. Призывал строить «великую славянскую плотину», чтобы противостоять напору «германского империализма», а также призывал к объединению народа. Но настоящим врагом, которого следовало разоблачать и искоренять, были «могильщики Польши», «санационно-озоновые шарлатаны» (ОЗОН популярное название организации Obóz Zjednoczenia Narodowego, Лагерь Национального Единства, созданной в 1936 году – прим. перев.), «предатели народа», «подлые агенты гитлеризма», «дебоширы национального фронта». Манифест заканчивался призывом: «Да здравствует Польша Свободная, Сильная, Независимая, Суверенная и Демократичная!». Нагромождение стольких определений в национально-освободительном духе свидетельствует о явном комплексе польских коммунистов, который, впрочем, так и остался их кошмаром до самого конца, а именно – что народ не воспринимает их как «своих», но видит в них навязанную Востоком чужую диктатуру.
Отношение к СССР составляло суть политической и идеологической доктрины Польского Подпольного Государства, связанного с правительством Речи Посполитой в Лондоне, а опосредованно определял и политическое мышление значительной части общества. На это повлияли и опыт 17 сентября 1939 года, и более близкие события, связанные с найденными в Катыни могилами. Немецкая пропаганда не только открытием правды об убитых польских офицерах пыталась возбудить враждебность к идущему с Востока большевизму. Немцы же были авторами и распространителями лозунга: «ПРП (Польская Рабочая Партия) – платные русские прислужники», который потом жил своей жизнью в виде оборотов «лакеи, предатели, агенты Москвы». Вследствие всего этого восприятие Манифеста в подпольной прессе было однозначно негативным. В комментариях на эту тему не стеснялись даже явной лжи и измышлений. Другая сторона отвечала «оплёванным карликом реакции».
С другой стороны, под признанием Ирены Кшивицкой: «я мечтала попасть в руки большевиков после того, что было пережито при немцах», - склонны были подписаться в те пору многие. Перед лицом приближающейся Красной Армии польское общество разрывалось между надеждами и страхом за будущее. С одной стороны, ожидали освобождения из-под немецкой оккупации, с другой стороны, немного было таких, которые радовались, что освобождение идёт с Востока. Впрочем, не все переживали страх в подобной степени. Сильнее он терзал население, живущее на территориях, захваченных Советским Союзом в 1939 году. Меньше боялись жители центральной и западной Польши. По сравнению с «немецкой чумой» из двух зол лучше был – как тогда казалось – «советский грипп».
ОСВОБОДИТЕЛИ, УБИРАЙТЕСЬ К ЧЁРТУ
Советские войска занимали Польшу двумя волнами. Первая остановилась на линии Вислы в августе 1944 года. Вторая пришлась на январь и февраль 1944 года, когда в результате молниеносного зимнего наступления немецкие войска были вытеснены с остальных территорий Речи Посполитой. Поляки с искренней радостью приветствовали вступление Красной Армии. Об этих эмоциях свидетельствует письмо, посланное из Парчева в люблинское воеводство: «В первых словах благодарим Бога и Пресвятую Богородицу за наше спасение, а также Красную Армию, что спасли нас от гитлеровского врага, потому что если бы опоздали на три часа, то гитлеровский сатана уже готов был нас всех сжечь. Уже бензин припасли, и город, и ближние деревни окружены были германцами, и в ту ночь он всех нас должен был сжечь».
Однако быстро, после первых контактов с советскими солдатами, благодарность была вытеснена неприязнью, ужасом, а потом и ненавистью. 22 января 1945 года Мария Домбровская записала: «Прошли четыре дня, полные нервного напряжения, ожидания, надежды, страха. Наконец, всё погрузилось в какую-то отупляющую скуку». Однако, страх, сначала неясный, начало сгущаться. Сначала он был связан с хаосом первых дней, потом, когда армия расположилась, приобрёл более конкретные черты.
Солдаты Красной Армии начали вызывать страх по двум причинам: политические репрессии, а также обыски и воровство, которые стали настоящим кошмаром для польского населения, особенно в первый год после окончания немецкой оккупации. В 1944 году на исконно польских землях грабежи и реквизиции редко происходили сразу же после «освобождения» данной местности. Обычно они начинались через некоторое время, когда уже кончились цветы, отзвучали «Ура» и «Да здравствует!». Красная Армия была плохо экипирована и плохо снабжена провиантом, её солдаты часто страдали от голода и холода. Поэтому направление специальных реквизиционных отрядов под командой офицеров для сбора по деревням продуктов являлось для армии СССР методом ведения войны и практиковалось ею на польских землях также и после окончания войны. Реквизировалось также и государственное имущество.
Мария Домбровская обогатила каталог негативных черт, присущих солдатам Красной Армии, следующими: угрюмость и подозрительность. В январе 1945 года она записала: «Уже забрали всех лошадей, корову, двух свиней, много кур и яиц. Пьют, особенно офицеры, очень много водки, которую велят подавать в стаканах. При этом столь подозрительны, что приказывают хозяевам пробовать первыми, что является оскорблением для польского народа, среди которого никогда не было отравителей. Они угрюмы, невежливы, в них нет ничего от духа освободителей».
Чаще всего воровали велосипеды и часы. Фраза «Dawaj czasy!», выкрикиваемая во время такого рода инцидентов, стала одним из символов послевоенного времени. Фраза эта, постоянно появлявшаяся в разговорах поляков, имела психологическое значение – она унижала «непобедимого союзника» и тем самым повышала национальную самооценку. Отсюда и популярность поговорки: «Часы и велик забирай и проваливай давай».
Женщина, подвергшаяся нападению – скорее всего, в апреле 1945 года – вспоминала в письме: «Встретились мне два москаля и сначала кричали про часы, чтобы я им часы отдала, когда я им сказала, что у меня нет часов, то стали угрожать, что застрелят меня, если не отдам им. И начали искать везде. А когда не нашли, то забрали у меня велосипед, коробочку с табаком и портсигар и ещё хотели снять башмаки и пальто, а я им ни пальто, ни башмаки не отдавала, тут они сказали, что застрелят меня. Ну, я решилась на всё и говорю им – стреляйте, мне всё равно. Тогда каждый по разу выстрелил мне около головы, но я не испугалась, а когда увидели, что я не боюсь, то махнули рукой и на плащ, и на башмаки, и велели мне идти куда хочу».
Врач и директор больницы в Шчебжешине Зыгмунт Клюковский записал в своём дневнике (который был опубликован в 1959 году и получил Историческую Премию «Политики»): «Вечером улицы пустеют. Люди боятся пьяных большевиков», это имело – надо думать – большое влияние на отношение и к Манифесту, и ко всему режиму.
ЛЮБИМ, ПОТОМУ ЧТО НЕНАВИДИМ
Однако в одном новая власть была заодно с народом. В ненависти к немцам. Легитимизация на антинемецком фундаменте имела большие шансы на успех, поскольку в обществе была жива память о военных преступлениях, совершённых оккупантами. Отсюда в Манифесте столько фраз о «германских ордах» и «чванливом прусачестве». Писать «немцев» со строчной буквы было обычным делом не только в государственных официальных документах, но также и статьях оппозиции, связанной с лондонским лагерем. Враждебность и ненависть были доминирующими и повсеместными. Эти чувства, возросшие на страданиях народа, распаляли желание расплаты и мести. Зыгмунт Клюковский записал 21 января 1945 года: «Все желают, чтобы союзные войска ворвались вглубь Германии, дошли до Берлина, совершенно уничтожили Германию и отомстили ей. Перемирие в значительной степени затруднило бы свершение кровавой мести, а люди её жаждут, прежде всего».
На переломе ноября и декабря 1944 года в Люблине состоялся суд над шестью охранниками из Майданека. Он возбудил огромный интерес и эмоции. Об этом свидетельствуют письма, перехваченные Военной Цензурой.
«Дорогие Родители! Я видел и посещал фабрику смерти в Майданеке. Когда я на это смотрел, то ужас и месть охватывают человека. Палачей из Майданека поляки поймали. Сегодня первое судебное заседание, а завтра второе. Их шестеро. Толпы людей требуют смертной казни для этих палачей».
«Любимая мамочка! У нас сейчас процесс шести немцев, палачей из Майданека. Я видел, как их вели по Краковскому, башки опустили, и глаза трусливые. Их вели на судебное заседание в Дом Солдата. Мне кажется, их публично повесят. Я бы их повесил не за голову, а за языки, чтобы дольше мучились».
«Здравствуй, дорогой Семен! Вчера закончился суд, и повесили пятерых «фрицев», которые были начальниками в Майданеке и убивали людей. Вчера в два часа повесили их. Можешь себе представить, что творилось. 10 тысяч человек, крик, плач людей, у которых семьи погибли. Прямо рвались к ним. Хотели их разорвать на куски. Понятно, этого не допустили».
Однако, линчевание немцев или фольксдойчей случалось. Бывали даже случаи осквернения трупов. Массово брили головы женщинам, обвинённым в том, что они «спали с врагом». Ещё в июне 1945 года подпольная группа в окрестностях Отвоцка обрила головы нескольким женщинам, которые «находились в близких отношениях как с немцами, так и сейчас с советами». В некоторых местностях, например, в Ольштыне, были организованы гетто для немцев. Их выделяли, рисуя на спинах свастики или заставляя носить повязки.
Убеждение, что в гитлеровских преступлениях повинен весь немецкий народ, разделяли почти все поляки. Все были согласны с тем, что единственным решением немецкого вопроса может быть лишь выселение немцев за границы Польши. В этом контексте не приходится удивляться тому, что режим добивался поддержки общества, разжигая ненависть к немцам, а потом создавая атмосферу угрозы народу со стороны извечного врага – это стало главным мотивом пропаганды. С неплохим, кстати, результатом.
КОШМАР НЕУВЕРЕННОСТИ
Кроме ненависти специалист по социальной психологии диагностировал бы и другой недуг. Чувство неустойчивости, ненадёжности и неуверенности – эти эмоции были свойственны (хотя бы на протяжении недолгого времени) большинству поляков. Радость от конца войны не только никогда не поднялась на уровень энтузиазма, как на Западе, например, во Франции, но и кончилась быстро. Будущее являлось как мучительный вопросительный знак. Прав был Болеслав Пясецкий, будущий руководитель PAX (ПАКС, католическая организация, занимавшейся изданием прессы и книг, являвшаяся посредником между Католической Церковью и властью в ПНР – прим. перев.), писал в мае 1946 года: «Массовое подсознание поляков находится в состоянии тревоги». Из-за цензуры автор не имел возможности назвать причины этого состояния. Их было много. Большинство было связано с последствиями политического, социального и экономического вхождения Польши в орбиту Советского Союза. Никто не знал, не превратится ли «мягкая революция», как характеризовал перемены Ежи Борейша, директор издательства «Чительник», в более жестокую, или – как предсказывало подполье – не станет ли Польша семнадцатой республикой Советов. Никто не знал, как обернётся судьба Польши, потому что о возвращении на старый, довоенный путь и мечтать нельзя было.
 Раздел земель графа Потоцкого. Свидетельство собственности вручает уполномоченный ПКНО.
Раздел земель графа Потоцкого. Свидетельство собственности вручает уполномоченный ПКНО.
Настроения то взмывали, то падали. Когда вспыхнуло восстание в Варшаве, всех охватил энтузиазм. Когда оно пало, воцарилось чувство поражения. Когда после переговоров в Москве в 1945 году в Польшу вернулся Станислав Миколайчик, имея в кармане назначение на пост вице-премьера и министра сельского хозяйства, казалось, что ещё не всё потеряно. Существовали, впрочем, и другие предпосылки, чтобы так думать, например, относительная свобода в сфере культуры и не слишком сильное идеологическое давление. Речь Черчилля в марте 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне с фразой о «железном занавесе» заставила думать, что Запад бросил нас на произвол Советов. Однако, у некоторых разбудила надежду на Третью мировую войну.
До июля 1946 года слухи о близком вооружённом конфликте между англосаксами и Советским Союзом появлялись, кажется, раз двадцать. Кто-то даже видел укрепления, возводимые Красной Армией. Назывались даты высадки десанта II корпуса Андерса в Щецине. Кажется, пять раз должно было вспыхнуть восстание «людей из леса». Надежда на перемену участи смешивалась с сомнениями, что ещё более усиливало неуверенность. Перед референдумом 30 июня 1946 года с каждым днём росло общественное напряжение. По случаю национального праздника 3 Мая во многих городах прошли антирежимные протесты и демонстрации, особенно выделялась демонстрация в Кракове. 4 июля имел место антисемитский погром в Кельцах. Следующий рост напряжения, измеряемый количеством разнообразных слухов, ростом курса доллара и рыночной паникой, предшествовал выборам в январе 1947 года. Как сказал бы Зыгмунт Бауман – послевоенная текучесть.
Ещё большее отсутствие стабильности и страх чувствовали те, кто поселился на бывших немецких землях. Немцы могли вернуться, а тоска по Вильно и Львову поддерживала надежду на возвращение на территории, лежащие на восток от Буга. Ничего странного, что на западных и северных землях многие крестьянин сомневались, стоит ли им пахать и сеять, если они не были уверены, что им придётся собирать урожай. Некоторые до самого начала 70-х годов не вкладывали средств в свои хозяйства, не ремонтировали строений, опасаясь возвращения прежних хозяев.
С кошмаром неуверенности близко столкнулись те, кто в своё время получил землю как бывшую немецкую, так и вследствие земельной реформы. Не только власть не торопилась выдавать свидетельства собственности, но ещё и подполье разжигало страх перед коллективизацией. Поляки, которые пережили советскую оккупацию в 1939-1941 годах, знали, чего бояться. Опасались и частные предприниматели. Национализация земли в Варшаве, а также принятое в январе 1946 года постановление о национализации крупной и средней промышленности не предвещали ничего хорошего в будущем.
После войны, как на иголках, жил, практический каждый владелец квартиры. Из-за разрушений, особенно в Варшаве, Гданьске, Познани и тысячах меньших населённых пунктов, а также вследствие необходимости репатриировать население городов, которые вошли в состав советских республик (в том числе Львов, Вильно, Гродно), в городах царила невообразимая теснота. В связи с расквартированием частей Красной Армии советские коменданты занимали целые кварталы, поселяя в них солдат и офицеров. Жилищные трудности приводили к тому, что власти некоторых городов (в том числе Кракова, Быдгощи) даже приняли постановления о принудительном переселении части жильцов. По квартирам ходили специальные группы из жилищных управлений, проверяя, не живёт ли в них слишком мало людей. Срочно искали жильцов, лучше всего ближайших родственников. Это нагнетало нервозность и паникёрские настроения.
Кошмар неуверенности касался и денег. Их неожиданный обмен в 1945 году (можно было обменять оккупационные деньги только по 500 злотых на человека и только в течение ограниченного времени) вызвал переполох. Не только сотни тысяч людей потеряли свои сбережения, так ещё и все остальные были принуждены несколько месяцев заниматься меновой торговлей, поскольку не хватало наличных денег. Обмен подорвал доверие к государственным финансовым институтам, а также к новому злотому, затрудняя укоренение в новой реальности.
Неудачное для Польши окончание Второй мировой войны разрушило социальную иерархию, развеяло планы и надежды. Не все могли справиться с этим. Они искали виноватых.
НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
В 1944 и 1945 годах поляки были разделены как никогда. Давайте представим, что мы проводим среди них опрос – мечта каждого историка – и спрашиваем об их избирательских предпочтениях, на кого они надеются, как оценивают Манифест ПКНО. Наверняка, самую большую поддержку получили бы лондонцы и Армия Крайова. Однако в этой группе электората тоже был разлом. Одно крыло составляли либералы или – как называла их Кристина Керстен – капитулянты, для которых важны были довоенные демократические и левые идеалы и которые склонны были пойти на компромисс с коммунистами. Либералы даже подписались бы под Манифестом, если бы выбросить из него абзацы, свидетельствующие о сервилизме по отношению к СССР. Другое крыло, непреклонных, не признавало никаких компромиссов, оценивая Манифест как «советскую хитрость». Эти считали, что следует переждать «антракт между двумя войнами» в боевой готовности либо продолжать бороться.
Иллюстрацией трагического распутья, на котором оказались поляки, может служить письмо одного из солдат подполья, посланное в мае 1945 года: «Может, это моё последнее письмо. Во имя Господа за веру и Родину, не печальтесь обо мне никогда, но за Родину мы способны умереть, потому что уже так далеко зашло, что кровь между нами и москалями льётся, и мы пойдём со штыками на винтовке до Москвы и откроем Львов и Катынь. Не отдадим родной страны, идём же, - с нами Бог! До капли кровь отдать в боях (неточная цитата из стихотворения Марии Конопницокв «Присяга» - прим. перев.), и бил басурмана (цитата из стихотворения Марии Конопницкой «А при том короле Яне» - прим. перев.), всегда назад, мы при АК, и прощаюсь с вами всеми. Может, это уже последний раз, не знаю».
Лагерь под красным знаменем, поддерживающий Манифест, сначала объединявший горстку сторонников, постепенно набирал сил. Напомним, что состав ПРП относительно быстро вырос до 400 тысяч членов. Мы можем называть их предателями, коммунистами, отравленными, хотя таким образом и упростим их мотивы вступления в эту организацию. Были среди них и реалисты, и очарованные «победной Красной Армией», и, наконец, такие, у которых были сильны классовые убеждения: довоенные батраки и беднейшие крестьяне, а также часть рабочих. Письма парней из гражданской милиции или Корпуса внутренней безопасности, едущих на операцию против «бандитов» из АК, показывают, что тут война шла не на жизнь, а на смерть.
Была ещё третья группа, многомиллионная, менее интересующаяся политикой, но ожидающая мира и стабильности, борющаяся с ежедневными трудностями, которых после войны хватало. Она составляла большинство.




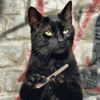

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием

 )))
)))












