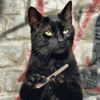http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,1...cielu.html?v=2
Gdynia: Strzały na amerykańskim niszczycielu
Гдыня: Выстрелы на американском эсминце
Таинственные выстрелы на мощном американском эсминце Ramage, находящемся в порте Гдыни. По сообщению TOK FM, кто-то трижды выстрелил из пистолета. Пока что подробности происшествия неизвестны.
Funny 5
- Интересно.
Rydzyk _fizyk
- Пристреливаются к Вестерплатте? wink.gif
Mozart
- 70 лет назад некий немецкий корабль явился в Гданьске с визитом вежливости. Вечеринка длилась более 5 лет…
Aplus
- История любит повторяться, но не всегда одним и тем же образом. Надеюсь, что на этот раз начнут с халупы рыжего (
премьера Туска – прим. перев.).
Alexis _corner
- Shit! Lady Goldsmith! Совершенно ни к чему я начала новую тему о ковбоях.
Морских ;-)
3miastoorg
- Были проблемы с американскими моряками в Труйместе. Был случай, когда они сильно избили таксиста. Вызванная на место происшествия полиция ничего не могла сделать, потому что американские солдаты находятся вне зоны действия нашей юрисдикции. а что будет твориться, когда нам поставят базу с 1000 таких горячих парней? В Японии то и дело происходят беспорядки в тех местах, где располагаются американские базы. Потому что время от времени случаются изнасилования и даже убийства молодых японок. Американцы, естественно, остаются безнаказанными.
Darthmaciek
- Ты преувеличиваешь насчёт безнаказанности, потому что даже если японские суды не имеют права привлечь их к ответственности, то, уверяю тебя, американские военные трибуналы и к насильникам, и к убийцам относятся очень сурово…
Будь добр, найди какую-нибудь ссылку на событие, когда американские солдаты в Японии, совершившие тяжкое преступление, избежали процесса перед военным трибуналом…
Nie –tak
- Пишешь – сурово, а что с Бушем и его кликой, о предшественниках тоже нельзя забывать?
Zz 26
- Разве президент США солдат или рядовой гражданин? Мозгов у тебя не хватает, чтобы понять, что военный трибунал касается только солдат? Военные трибуналы, которые выносили приговоры в делах гражданских лиц, были только в Советском Союзе, где таким образом миллионы были убиты за предательство революции.
Zigzaur
- А почему Владольф Путлер ещё не на колу? Хотя бы за агрессию против Чечни и Грузии?
Eman _man
- «Пишешь – сурово, а что с Бушем и его кликой, о предшественниках тоже нельзя забывать?»
Страшно подумать, что в Польше была бы целая база этих дикарей. Обама – самый умный президент дикарей со времён Рузвельта, я верю в его ум. Если он переломит политкорректность правых, царящую в США, ему удастся перестать продолжать политику Буша и маккартистов. Будет трудно, потому что дерьмо, которое оставили Обаме маккартисты и Буш, надо будет вычищать годами.
Malcontent 6
- «Если он переломит политкорректность правых»
Что такое «политкорректность правых»?
«маккартисты и Буш»
Маккартисты? Приятель, лечись.
Full _color
- Обама – на тех же верёвочках, что и Буш, это видно невооружённым глазом. Этот тип, так же, как и другие президенты США, марионетка. В США никогда не было демократии. Обама взял на борт тех самых псов с Уолл-стрит, которые довели страну до состояния, в которой она сейчас находится. Американское общество ждёт горькое разочарование. В сентябре в Вашингтоне произошли демонстрации, в которых участвовало более 2,5 миллионов человек (проправительственные СМИ не обратили на них внимания). США постепенно вступают на путь мягкого (пока что) варианта фашизма. Наблюдай.
Kylax 1
- Фашизма – нет, а вот кацапосоциализма – к сожалению, да. Само предложение изгонять акционеров из фирм и брать эти фирмы под контроль государства пахнет неким строем на букву К.
Full _color
- Я воспользовался словом «фашизм», потому что так пишут сами американцы (независимые СМИ), и они, к сожалению, правы. Фашизм – это терминЮ имеющий точное определение. Проблема касается не только экономики, но, прежде всего, трансформации США в полицейское государство (программы Homeland Security и Watch (LAPD) – это всего лишь один из примеров).
Возмущение американцев постепенно растёт, и раньше или позже произойдёт взрыв.
Kylax 1
- Да, США – в определённой степени полицейское государство. Мне это не мешает, поскольку я там не живу, а только летаю время от времени устраивать свои дела.
Примем также во внимание и то, что США имеют перед глазами прекрасный пример Китая.
Full _color
- Но ты, наверняка, согласишься с тем, что это не обещает ничего хорошего. На самом деле мы не знаем, во что это разовьётся, а серьёзная дестабилизация такого большого и влиятельного государства, как США, приведёт к потрясению во всём мире. Только жаль этого нафаршированного ложными идеалами общества.
Kylax 1
- Дестабилизация США станет проблемой. Но другие империи тоже имели проблемы, тоже приходили в упадок и будут приходить в упадок, а мир продолжает существовать.
Nie –tak
- «На самом деле мы не знаем, во что это разовьётся, а серьёзная дестабилизация такого большого и влиятельного государства, как США, приведёт к потрясению во всём мире. Только жаль этого нафаршированного ложными идеалами общества».
Ещё к какому потрясению, скорее, землетрясению в экономиках, поэтому всё и заметают быстренько под ковёр, другие государства выводят доллар из обращения, чтобы ещё как-то спасти, но как долго это может продолжаться? Аналитики рассчитывают, что до декабря 2009 года.
Snellville
- Вам, кацапам, нечего опасаться, ваша экономика ocien balszaja. Землетрясения у вас не будет, вы к нищете привычные. Скорее волк с голоду сдохнет, чем москалю захочется есть.
Malcontent 6
- Полицейское государство? На основании чего ты утверждаешь, что США – полицейское государство?
Snellville
- «Страшно подумать, что в Польше была бы целая база этих дикарей. Обама – самый умный президент дикарей со времён Рузвельта, я верю в его ум. Если он переломит политкорректность правых, царящую в США, ему удастся перестать продолжать политику Буша и маккартистов. Будет трудно, потому что дерьмо, которое оставили Обаме маккартисты и Буш, надо будет вычищать годами».
Ты, кажется, забыл о тех настоящих дикарях с востока, которые столько лет квартировали в Польше. Ты хоть какую-нибудь американскую базу вблизи видел? А москальскую видел??? У меня много американских клиентов, которые были расквартированы по всей Европе. От Турции до Германии, ни один из них не выглядит дикарём, совсем наоборот, очень достойные люди. Кажется, в данный момент дикарём являешься ты, только не знаешь об этом.
Eman _man
- «У меня много американских клиентов, которые были расквартированы по всей Европе».
У тебя много – невыученных уроков. Возвращайся, сынок, к тетрадкам, потому что для того, чтобы о чём-то писать, надо хоть что-то знать об этом. И перестань читать штатных маккартистов на форуме, потому что от них ты ничего не узнаешь о мире.
Snellville
- Сынок… Хорошо.
Видишь, баран, никто не хочет знать того, что ты знаешь, и ты делишься этими глупостями в надежде, что кто-нибудь тебе поддакнет. Скажи нам сначала, кто такие «маккартисты» ???... какая-то новая теория, которая тебе приснилась, баран.
Надевай берет («мохеровые береты» - прозвище католических радикалов, сторонников Рыдзыка и ПиС, - прим. перев.) и вали на вечернюю мессу, может, Господь простит тебе твою глупость.
Stefan 4
- «уверяю тебя, американские военные трибуналы и к насильникам, и к убийцам относятся очень сурово»
А сексуальных извращенцев, специализирующихся на пытках, тоже?
http://www.wired.com/science/discove...mp;slideView=2
Твоих заверений недостаточно, потому что им противостоят факты.
Zigzaur
- Русская армия не подлежит юрисдикции американских военных судов. А жаль…
Stefan 4
- А ты не состоишь в американской армии на должности Старшего Извратителя Фактов, правда?
Эти фотографии представляют американскую солдатню в действии, и ты об этом прекрасно знаешь.
Eman _man
- «Русская армия не подлежит юрисдикции американских военных судов. А жаль…»
Конечно, жаль, что США ещё не контролируют парламент, правительство, администрацию и власти России, как они это делают во многих странах Центральной Америки и Южной Америки.
Zigzaur
- А также Северной Америки.
Nick _do_pyskowania
- Фарс американских так называемых «военных судов».
Пропагандист Darthmaciek слепо верит в безупречное поведение наёмников на службе Империи Добра. Верит, как их вице-президент Доул, в «исключительность» Америки среди других стран и в её «миссию» в мире.
У Доул совершенно так же, как у кремлёвских, британских, немецких или в скором времени китайских аппаратчиков, мозг пропитан насквозь миазмами об американском суперменстве и её «миссии».
А пока что «американские суды» выносят приговоры, которые в абсолютном большинстве оправдывают подсудимых или приговаривают их к смешным срокам. И даже эти смешные сроки быстренько укорачиваются президентами.
Чтобы Darthmaciek-и могли рассказывать сказки о «процессах в (американском) военном трибунале».
Darthmaciek
- Сильно сказано – докажи!
Будь добр, найди случай за последние 20 лет, когда американский солдат, будучи насильником и\или убийцей, получил бы чрезвычайно мягкий приговор –а уж в особенности я бросаю тебе вызов в вопросе, что этот приговор смягчил какой-либо президент США!
Stefan 4
-
http://www.famous-people.info/373/Lynndie-England.html
Lynndie England - за издевательство над пленниками (в том числе, принуждение к содомии) её грозило 16 лет. За добровольное согласие на наказание ей сократили срок до 11 лет. Но американский чиновник Джеймс Пол не принял во внимание это её добровольное согласие и выхлопотал ей срок – 3 года.
http://www.trial-ch.org/en/trial-wat...ck-ii_552.html
Ivan L. Frederick – за подобные преступления, а также за отсутствие надзора за подчинёнными, применявшими пытки, приговорён к 8 годам. Не подавал апелляцию.
И всё равно вышел через 3 года.
Donald H. Rumsfeld - преследуемый правосудием нескольких стран, в том числе аргентины, Франции и Швеции, за военные преступления. Укрывается в США и, по всей вероятности, ничего ему не будет.
http://en.wikipedia.org/wiki/Santos_Cardona
Santos A. Cardona - жестокое обращение в пленными, натравливание на них собак, пытки. Обвинитель требовал 20 лет. Однако военный судья приговорил его только к 90 дням работ на его военной базе и разжалование. После этих 90 дней его сразу же снова сделали сержантом и послали в Кувейт, чтобы он обучал иракскую полицию. Лишь его одного настигла справедливость: в феврале 2009 он взлетел на воздух на мине, подложенной афганскими партизанами.
Мне не хочется дальше искать очевидное, у меня другие дела есть. Ведь снисходительность к военным убийцам – это в США старинный обычай. За бойню в Мэй Лэй тоже никого не посадили (кого-то там держали недолго под домашним арестом, а когда шум утих, отпустили). А американский генерал удивлялся, что в Польше хотят судить убийц из Нангар Кель, потому что по американским армейским нормам они ничего плохого не сделали…
Darthmaciek
- Никто из них не был ни убийцей, ни насильником – Ингланд и Фредерик судили за «indecent acts», поскольку изнасилование предполагает физическую близость, а не унижения на сексуальной почве. И точности ради – никто из заключённых в Абу Грейб, над которыми эти двое издевались, не погиб, а они оба сели в тюрьму – она на 1,5 года, он на 3 года.
Что касается Мэй Лэй – это были совсем другие времена и совсем другая американская армия…
Stefan 4
- «Никто из них не был убийцей».
Боюсь, ты ошибаешься. Вот снимок радостной Инганд над трупом замученного заключённого; я могу предоставить тебе много подобных фотографий с американскими солдатами, счастливых оттого, что человек испустил дух.
Вследствие весёлых забав американских солдат-тюремщиков сексом, кровью, удушением и электротоком люди погибали; но официально, действительно, никому не было предъявлено обвинение в убийстве. Точно, армия этих людей только мучила и пытала, не убивая; а они чуть позже умирали сами по себе. Однако в цивилизованных юридически системах нечто такое считается убийством.
Все обвиняемые по этому делу утверждали, что, действуя, как гитлеровцы, они исполняли волю своего начальства. Это их, конечно, никоим образом не оправдывает, но при столь согласных показаниях долгом обвинителей было бы проверить это начальство. В США это расследование даже началось, но когда стало понятно, насколько высоко сидят те, кто отдал приказ совершать военные преступления, расследование тут же и закончилось.
Ты спрашивал про президента, который помиловал убийц. Да вот нынешний президент США повинен в том, что прокуратура отказалась от расследования ответственности высокопоставленных американских чиновников за геноцид и пытки в Ираке и Афганистане. А прокуратура поджала хвост, как любая прокуратура в полицейском государстве.
«И точности ради – никто из заключённых в Абу Грейб, над которыми эти двое издевались, не погиб».
Чушь. Или ты повторяешь сказочки американских солдат, что, в общем, одно и то же.
«Что касается Мэй Лэй – это были совсем другие времена и совсем другая американская армия…»
Если другая, так почему она придерживается тех же традиций?
Niespodziewany 22
- Эй, Darthmaciek, ты, кажется, не знаешь, о чём говоришь, это ты приведи примеры, сколько американцев осудили (за убийства, насилия и т.д.). И не говори глупостей, будто военные трибуналы обходятся с такими очень сурово. Сурово обходятся с одним из тысячи, когда им приходится, потому что у них нет другого выхода, тогда устраивают показуху, о которой объявляют на весь свет… а ты, как телёнок, ведёшься… И кстати, скажи, сколько таких случаев ты знаешь за последнее время, из Афганистана и Ирака… Ну, скажи, судебный гений, сколько ты знаешь приговоров за расстрелы, убийства, изнасилования, грабёж… а это лишь верхушка айсберга…
Darthmaciek
- Вот, сразу же, на скорую руку один пример из Ирака
www.msnbc.msn.com/id/17247852/
darthmaciek
- Тут ещё два приговора по этому делу
http://www.courier-journal.com/artic...EWS01/90413031
darthmaciek
- И ещё один
en.wikinews.org/wiki/Ex-US_soldier_sentenced_to_life_in_prison_for_Iraqi_t een_rape,_four_murd
ers
Stefan 4
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmudiyah_killings
Paul E. Cortez [...] will be eligible for parole in 10 years
Найди пример получше.
Darthmaciek
- Ещё первый попавшийся пример из Косово
k.mihalec.tripod.com/current/berlinusa.htm
darthmaciek
- Третий пример на скорую руку – из Японии
en.wikipedia.org/wiki/1995_Okinawan_rape_incident
В этом случае американцы согласились выдать своих солдат японцам, и чтобы их судил японский трибунал…
Niespodziewany 22
- Ты привёл только три случая, но можно ещё добавить четвёртый из Ирака и пятый из Афганистана, а сколько их всего? Сколько? В одном только Ираке таких инцидентов (только самых жестоких) – более 7000 тысяч!!! Семь тысяч!!! И двое осуждённых!!! Один совершенный параноик, опасный для окружающих, и второй – для показухи… и всё… а остальные оправданы, потому что условия, потому что не знали, потому что и т.п. таких случаев, как с польскими солдатами, - около 5000, так о чём ты говоришь, парень… об этих найденных в интернете ссылках. Так покажи мне таких ссылок 200, тогда я скажу тебе, что это действует, а если нет, так стукни себя… по затылку… ОК?
Malcontent 6
- «В одном только Ираке таких инцидентов (только самых жестоких) – более 7000 тысяч!!!»
Откуда ты взял число 7000?
Asmall 4
- Это нечто вроде «2000 убитых осетин».
Malcontent 6
- «Был случай, когда они сильно избили таксиста».
Прежде, чем ты огласишь приговор, может, следовало бы тщательно исследовать происшедшее и выслушать показания обеих сторон конфликта – таксиста и американских солдат.
Zigzaur
- Таксист хотел одурачить пассажиров и выманить деньги, вот ему и досталось.
Malcontent 6
- Мне не хотелось этого писать, но у меня такое же предчувствие. smile.gif
Nick _do_pyskowania
- Malcontent 6 и Zigzaur написали, думая похоже:
«Таксист хотел одурачить пассажиров и выманить деньги, вот ему и досталось».
«Мне не хотелось этого писать, но у меня такое же предчувствие».
Ещё и улыбочку добавил « smile.gif ».
У меня вопрос: откуда у поляков берётся такая сервилистская склонность лизать задницу всякому, кто попадётся?
История Польши полна такими примерами, а в наше время такие Зигзауры или Мальконтенты в шестой степени доливают свою блевотину в помойное ведро национальной гордости.
Зигзаурам и мальконтентам, а также всем прочим польскоязычным на этом форуме.:
Если ты видишь, что бьют твоего брата, то сначала лупи злодея по зубам по глазам, по горлу и по чему попало. Изо всех сил. И не переставай, пока шевелится.
А потом, когда злодей валяется, брата ты защитил, тогда уж можешь спросить, из-за чего драка началась.
Поступать иначе – это просто самоубийство. На уровне брака, семьи, деревни, квартала, города или страны.
Многие другие народы поступают именно так, как я советую, с американцами во главе. По отношению друг к другу, у себя дома они могут быть стопроцентными расистами, естественно, «в обе стороны». Но многие из них свидетельствуют, что американская армия является великим воспитателем, искореняющим расизм. Истории типа:
«Когда на нас в немецком баре наехали местные драчуны, мы вместе с Вашингтоном иди Эрнандесом так бились, что тем пришлось удирать»
Весьма типичны.
Но, как видно на форуме польскоязычной GW, Зигзауры и Мальконтенты ещё присоединились бы к американцам и помогли бы им бить польского таксиста. Потому что без суда, так, «нюхом» чуют, кто был виноват. Их племя – это американцы, а не поляки. Меня тошнит от отвращения и гадливости.
Ещё не научились на собственной шкуре? Приглашаю в рай, поживите лет 20 в Империи Добра, а потом поговорим.
Malcontent 6
- «Но, как видно на форуме польскоязычной GW, Зигзауры и Мальконтенты ещё присоединились бы к американцам и помогли бы им бить польского таксиста».
Из какой больницы ты сбежал?
«поживите лет 20 в Империи Добра, а потом поговорим».
Я живу в США уже больше 20 лет, так что можем разговаривать wink.gif
Niespodziewany 22
- Ну, если живёшь, так, может, расскажешь немножко, а?
Malcontent 6
- О чём?
Zigzaur
- А ты не подумал о том, что я могу быть связан (эмоционально и бизнесом) как с Польшей, так и с Америкой?
А ты не подумал, что репутация польских таксистов такая, как она есть?
С польскими таксистами я имею дело и как пассажир, и как водитель. Они заслуживают основательного мордобития, в том числе и профилактически.
Niespodziewany 22
- А ты имел дело с нью-йоркскими таксистами?
Snellville
- Я имел, и довольно часто.
Кроме того, что они, как правило, воняют козлом, довезут тебя без проблем, куда захочешь.
Niespodziewany 22
- Ха-ха-ха-ха.
Дебил ты, что ли? Ну, так раздобудь, пожалуйста, показания американцев, ты, кажется, забыл, что как только всё это произошло, их немедленно изолировали от любых контактов, а потом отослали за границу… Сам себя допрашивай, баранья голова…
Nie –tak
- Япония уже сказала Штатом, чтобы они забирали свои игрушки и возвращались к себе, Германия тоже дала понять американцам, чтобы они упаковали свои ядерные реликты и переехали в Штаты. Об этом писали СМИ и в Польше, GW, как обычно, молчит.
Zigzaur
- Никто не смеет приказывать Америке. Пусть немцы радуются, что живы, и послушно платят.
Eman _man
- Точно. С американскими дикарями страшно вступать в дискуссию. Но пока Япония и Германия независимы, они могут выгнать дикарей со своей территории.
Zigzaur
- Один раз уже пытались выгнать американцев. А тогда были относительно значительно сильнее, чем сегодня.
Япония думает о том, чтобы выгнать дикарей с Сахалина и Курильских островов. Раньше или позже она их выгонит.
Snellville
- «Точно. С американскими дикарями страшно вступать в дискуссию. Но пока Япония и Германия независимы, они могут выгнать дикарей со своей территории».
Да ты, кажется, о коммуне мечтаешь???
Таких, как ты, надо в Сибирь ссылать. Может, когда твоя башка с остатками разума замёрзла бы, твоя семья, наконец, вздохнула бы с облегчением.
Eman _man
- «Таких, как ты, надо в Сибирь ссылать».
Типичный пример маккартиста.
Я вовсе не сомневаюсь в методах маккартистов, только иной раз не могу сообразить – то ли это маккартисты, то ли большевики.
Zigzaur
- Действительно, соображать ты не умеешь. Это доказывают твои высказывания.
Niespodziewany 22
- Янки – это закомплексованная деревенщина, и только поляки (некоторые дураки) лижут им задницу так, как ты…
Niespodziewany 22
- Американцы валятся, как груши с дерева, и лижут задницу всем арабам, потому что иначе долго бы не продержались, теперь китайцы получили право голоса, Япония, Индия и Пакистан тоже силу набирают, так что им приходится искать других для лизания задницы, лучше всего полячишек… хе-хе.
Prawdziwypragmatyk
- Описанные случаи касаются на только американских marines. Подвыпившие моряки, возвращаясь на корабль из таверны, хулиганят кто во что горазд. Отыгрываются и на своём начальстве, которое не позволяет им заниматься на суше «левым бизнесом».
Zigzaur
- Marines – это не военный флот.
Nick _do_pyskowania
- Обращать внимание на такие детали – это популярно среди подростков не старше 12 лет либо среди людей с интеллектуальным уровнем двенадцатилетнего подростка. А также в армии – любого рода войск.
О, извините, я повторяюсь.
Zigzaur
- Это принципиальная разница, потому что USMC никогда не воевал в Европе.
Я надеюсь, ты отличаешь автобус от мусоровоза.
Niespodziewany 22
- Ага, marines – обычная солдатня, пехота (но думают о себе невесть что)… хе-хе… придурки… я знал нескольких white trash, которые там служили… в большинстве своём, уровень имбецила… хе-хе…
Olw
- Может быть, в такой сухой информационной заметке следовало бы обойтись без эмоций типа «могучий» и «супер-эсминец». Или любая информация должна быть «мегараздута»? величина корабля не имеет никакого отношения к предполагаемым выстрелам из пистолета.
Nie –tak
- Если бы речь шла о немецком или русском корабле, всё было бы иначе, это игра словами, которая называется манипуляция и промывает мозги некоторым людям в Польше.
Zigzaur
- Немецкие корабли не в состоянии доплыть до польских портов. Их задание – только оборона побережья под командованием НАТО.
Русские корабли тонут, проплыв 1 милю, а впрочем, они в любом случае на Балтике находятся незаконно.
Malcontent 6
- «Если бы речь шла о немецком или русском корабле, всё было бы иначе».
Если речь идёт о трагической по своим последствиям стрельбе советской солдатни, хозяйничавшей в Польше несколько десятилетий, то тогдашняя пресса не упоминала об этом ни словом. Сегодня, впрочем, об этом тоже мало пишут.
Olw
- Дело не в том, кто стрелял, важно не твердить, что это единственный в своём роде неповторимый «супергиперэкстраэсминец» .
Niespodziewany 22
- Ты только забываешь, что Советы своих держали в намордниках и в клетках, и их контакт с внешним миром был ничтожен… только офицеры занимались бизнесом в гигантском масштабе, и только им можно было время от времени немножко пострелять… а у янки обычай такой, что их всех спускают с цепи, и они думают, что всё это их и им принадлежит.. white trash, that`s all....
Malcontent 6
- «Ты только забываешь, что Советы своих держали в намордниках и в клетках, и их контакт с внешним миром был ничтожен…»
То есть, ты считаешь, что это наилучший метод, как обходиться с русскими?
«а у янки обычай такой, что их всех спускают с цепи, и они думают, что всё это их и им принадлежит.. white trash, that`s all....»
Ты пишешь на основе собственных наблюдений или социологических исследований7
Niespodziewany 22
- ДА, это наилучший метод, так надо обходиться со ВСЕМИ солдатами, особенно в мирное время… потом спускаешь их с цепи, и они рвут всё, что движется… так было в течение многих веков, и до сих пор это наилучший метод… именно так янки спускают своих в Ираке и Афганистане… думающий солдат – это плохой солдат…
Snellville
- Нечаянно рождённый, а теперь скажи мне, что бы произошло, если бы эту москальскую чернь спустили с цепи??? Они пошли бы кофе пить??? Ты пишешь что попало, лишь бы спорить, не обращая внимания на логику.
Niespodziewany 22
- Их затем и держали, чтобы они не смогли никуда пойти… вот и всё… об этом я и речь веду, потому что если бы каждую субботу и каждое воскресенье у них были увольнительные, то изнасилований и убийств было бы неимоверно много… как во времена Второй мировой… как саранча... что янки, что москали – одно и то же… бандитизм наравне с гитлеровцами… всё…
Janvideo 24
- Пан журналист, не судно, а корабль. На военном флоте – корабли, а не суда. Вот и всё.
Stefan 4
- Это всё равно, как если бы ты сказал «Это не человек, а моряк». Каждое судно является кораблём, хотя не наоборот. Судно – всё что плавает, от байдарки до этого американского плавучего бандитского притона.
Посмотри, например, как сформулированы Правила о Предотвращении Столкновений на Море, то есть нечто вроде морского дорожного кодекса:
«Часть А. Общие установления.
(…)
Правило 3. Определения.
В понимании данных правил, за исключением случаев, когда из содержания следует иное:
1. Определение «судно» обозначает любое плавающее устройство, не исключая устройств, не обладающих водоизмещением, и аквапланов, используемых или пригодных для использования в качестве водного транспорта».
Если что-то годится для перевозки войск или взрывчатых материалов, то это корабль.
Jerzy 8-net
- Это только «предчувствие» пребывания американских солдат в Польше. А потом – мы будем закрывать дискотеки, рестораны… и никто нигде не захочет их видеть. Даже профессиональные проститутки будут удирать от этой банды. А сколько будет детей, у которых в рубрике «отец» будет указано, например, Джон… или неизвестный?
Malcontent 6
- «А потом – мы будем закрывать дискотеки, рестораны».
Американцы располагаются в Германии с конца войны, но дискотеки как-то существуют и прекрасно работают.
Zigzaur
- Ну так следи за своей дочерью\сестрой\матерью\же� �ой (ненужное вычеркнуть).
g.r.a.f.z.e.r.o
- Польская жандармерия выяснила, что произошло на американском корабле?
Эти военные корабли во время стоянки в порту подлежат юрисдикции хозяина? Я спрашиваю, потому что, признаться, не знаю.
Handlaz
- Представь себе такую ситуацию: ты приглашаешь кого-то в свой дом. Через некоторое время что-то у тебя пропадает, и ты обоснованно подозреваешь гостя. Кто рассудит это дело? Ты или он?
Arahat 1
- «Польша – единственная страна Евросоюза, экономика которой выросла за последние три квартала. Это стало возможно благодаря сильной основе экономики, свободному валютному курсу, а также быстрой реакции польских властей на кризис», - читаем в последнем рапорте Всемирного Банка, касающегося 10 новых пост-коммунистических стран-членов ЕС.
Zigzaur
- "Marines» - это солдаты United States Marine Corps, то есть род войск, служащий для морских десантных операций. USMC не действует в Европе, потому что это слишком маленький и стратегически маловажный регион (за исключением дипломатических объектов США, но это, скорее, почётная миссия).
Old .european
- Это было самоубийство US-американца. И промахнулся.
Zigzaur
- Самоубийства – это русские совершают.
Наверняка американцы откупоривали купленные на берегу бутылки. Доллар стоит настолько высоко, что алкоголь в Гдыне дешёвый.
Eman _man
- Дикари. Дикарей страшно пускать в Европу, как только увидят цивилизацию, содовая ударяет им в пустые головы. Это уже не в первый раз они перепутали Европу с дикарями, от которых произошли. Их последний визит в Польшу кончился избиением таксиста, который посмел потребовать, чтобы Marines заплатили за поездку. А власти Польши, кажется, прониклись словами высокого представителя ЦРУ, который сказал, что США воспринимают Польшу как 51 штат. Потому что оные Marines были отосланы обратно в США, в рамках «добрых отношений Польши и США», ни один не предстал перед польским судом.
Дикари пусть держатся подальше от Европы, а свои «фрегаты» пусть дарят дикарям с Американских Самоа.
Zigzaur
- Дикари рвутся в Европу с востока. Европа существует только и исключительно благодаря политической, военной и экономической помощи США. В течение последних неполных 100 лет, в двух мировых войнах Америка спасла Европу.
Bezportek
- Успокойся, Зигги, слюны жалко. Никто и никогда не убедит невежду, к счастью, время, самогон и сифилис потихоньку выметают советских мутантов на помойку истории.
Распространённая среди недочеловеков ненависть к США – это естественный рефлекс собаки Павлова, кусающей руку хозяина. С собаками это бывает.
Eman _man
- Действительно, маккартистам не хватает слюны, чтобы плевать против ветра. Правые группировки уже достаточно оплевали сами себя, рыская по интернету и распространяя полное ненависти, зависти и полного бескультурья враньё.
Таксист из Труймяста - он же «коммуняка», «левак», «собака Павлова», «большевик» - побитый друзьями из США, наверняка, надолго запомнит заботу, которой его окружили.
Zigzaur
- А кого касается какой-то таксист? Явно хотел обмануть и вытянуть денег побольше (как это у таксистов водится), за что его соответственно и поучили.
Nick _do_pyskowania
- Зигзаур брешет, как пёс. Как обычно, впрочем.
«А кого касается какой-то таксист? Явно хотел обмануть и вытянуть денег побольше (как это у таксистов водится), за что его соответственно и поучили».
Мои Любимые Marines, не так ли, Зигзаур?
Зигзаур сегодня очень доволен, потому что с утра ему удалось измерить рост, и на косяке чёрточка, нарисованная карандашом второй раз в жизни Зигзаура оказалась выше 130 см! Впервые это случилось, когда старший брат Зигзаура «за шкирку» и «для смеха», зная, как сильно это раздражает Зигзаура, приложил его к косяку на высоте метра восьмидесяти и нарисовал чёрточку карандашом.
Eman _man
- Европа не была бы Европой, если бы не Горбачев, который объединил Германию. Европа не существовала бы, если бы не возник противостоящий интересам США Евросоюз. Когда Европа истекала кровью, США поворачивалась спиной. США, конечно, имеют заслуги в войне, например, поддержка фашистского режима в Испании.
Zigzaur
- Госсподи!
1. Горбачёв – это был чирей, который удалили благодаря Рональду Рейгану.
2. Интеграция Европы не противоречит интересам США.
3. Не «США поворачивалась», а множественное число.
4. Европа истекала кровью, потому что не Америка управляла Европой. Теперь Европа не истекает кровью, потому что правит Америка.
5. В Испании никогда не было фашистского режима. Существовала опасность возникновения коммунистического режима, но этой опасности удалось избежать.





 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием