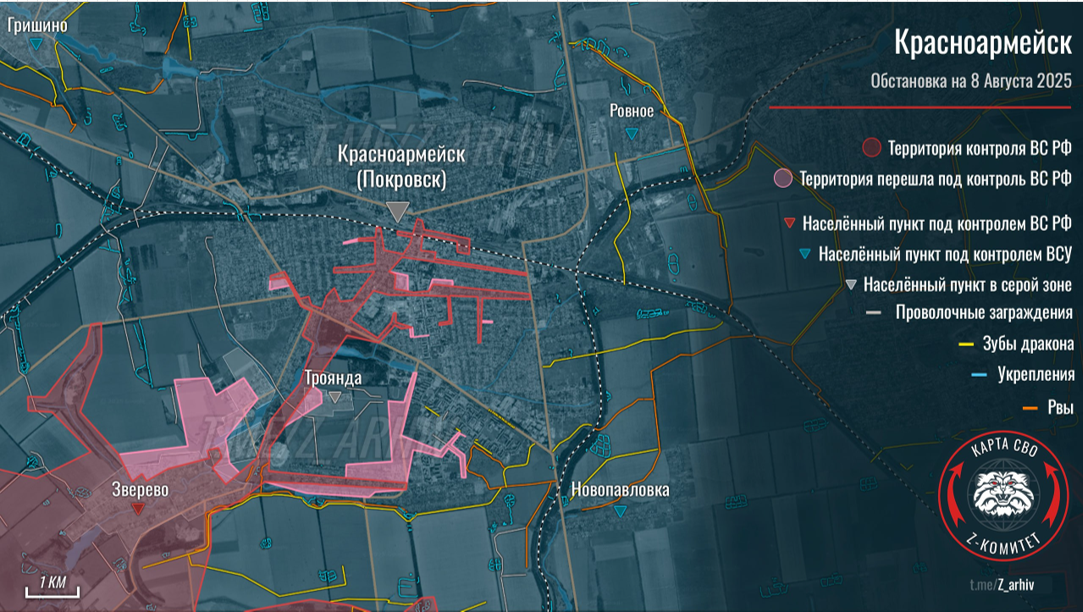1. Сейчас принято ругать "большой" классический ВПК, что он за три с половиной года СВО так и не дал фронту ничего действительно "прорывного" — успешные решения скорее шли откуда-то "сбоку". Но важно понимать, что такое наш "большой" ВПК. Это социосистема, которая начиная с 1991 года находилась в режиме борьбы за выживание — в условиях резкого падения востребованности, поскольку считалось, что никаких "больших" войн мы вести просто не будем. Я считаю, надо воздать должное людям, которые в этих условиях сумели сберечь те остатки промышленного, научного и технологического потенциала, не дать распилить их на металлолом и вывезти из страны. Но в этих условиях они вынуждены были адаптироваться к тому укладу, который сложился в постсоветский период.
Он, если грубыми мазками, был устроен так: есть труба, по ней текут к "вероятному противнику" нефть и газ, оттуда назад текут доллары, на которые мы покупаем всё остальное, чем живём. Всё, что оставалось делать оборонщикам — это построить ещё одну такую же трубу, по которой во внешний мир потекло наше оружие (когда-то оно было третьей по значению статьёй экспорта).
Эта модель диктовала логику разработок и производства, воплощённую в (отменённом ныне) форуме Армия: малые партии очень дорогого и высокотехнологичного оружия, призванного произвести неизгладимое впечатление на цветных людей в мундирах с разлапистыми орденами, которые приезжали туда с мешками денег. Попутно небольшими партиями такое оружие закупали и для себя — главным образом для того, чтобы цветные люди были уверены, что мы и сами тоже этим всем пользуемся.
2. Мы читали лекцию ровно 8 августа — в День Димона Принудителя. И читали её не где-нибудь, а в Сколково. Именно тогда, в 2008-м, возникла концепция "инновационной экономики", которую мы собирались построить на доходы от сырьевой, и Сколково было одним из главных проектов того этапа. Но понималась эта будущая экономика в той же "сырьевой" логике: дескать, страна наша богата не только нефтью, газом и оружием, но также и гениями-Кулибиными, которые при этом лежат бесхозные и пьяные под нашими заборами. Идея состояла в том, чтобы их собрать, отмыть, посадить за компуктеры, от каждого компуктера сделать маленькую трубу, все эти трубы соединить в большую трубу — и потекут к вероятному противнику наши чудесные Инновации, а оттуда, взамен, пойдут Инвестиции.
В реальности, правда, вышло чуть иначе: по трубе в Силиконовую Долину потекли не столько инновации, сколько сами инноваторы, и "институты развития" тут играли примерно ту же роль, что и Судженская ГРС. Но такая организация дела исключила даже теоретическую возможность синергии "гражданских" инноваций с оборонными. Две подмосковные деревни — Сколково и Алабино — географически были недалеко друг от друга, но топологически попасть из одной точки в другую было никак: направо пойдёшь — коня потеряешь. Гражданский недовенчур жил сам по себе, оборонные инновации — сами по себе.
Пока не случилась СВО.
Продолжая.
"У птичек всё то же самое" ((с)анекдот). Важно понимать, что с американским — и, шире, с НАТОвским ВПК в те же годы происходило то же самое — достаточно почитать доклад Шьяма Шанкара (недавно, кстати, официально получившего звание подполковника в американской армии). Резкое сокращение компаний-участников оборонзаказа, фактическая монополизация (точнее, олигополизация) рынка, полное вымывание с него гражданских подрядчиков, исчезновение целых классов "технологий двойного назначения". И точно так же, как у нас, логика экспорта стала всё больше диктовать логику разработок, а маркетинговая модель экспорта не сильно отличалась от нашей: "сверхдержава делится с недодержавами некоторыми из своих военных технологий".
Почему СВО так сильно поменяла представления о войне, и, в особенности, о военных технологиях? Все эти 30 лет шли войны — и у нас, и у них. Но что это были за войны? Модель примерно такая: либо "армия такого-то государства против "людей в тапках"", либо "люди в тапках" (чьи-то прокси) против других "людей в тапках" (тоже чьи-то прокси). Война, в которой сталкиваются друг с другом две большие высокотехнологичные армии, и при этом не применяется ЯО, вообще не рассматривалась как сколько-нибудь вероятная. И тем не менее случилась именно она.
Что вообще дало "проукраинской коалиции" уверенность в возможности нанести России стратегическое поражение в такой войне? Думаю, как ни странно, это Сирия — точнее, крайне невыразительное выступление там наших ВС. Сирийская кампания показала, что наша армия, таки да, способна (пусть и с немалым трудом) побеждать "людей в тапках", но лишь до тех пор, пока их не "зарядить" современным оружием. Как только это происходит, силы как минимум уравниваются, а структурные дефициты и дефекты нашей армии тут же вылезают на поверхность. Думаю, именно это двигало тем же Джонсоном, когда он в марте 22-го приехал в Киев в разгар стамбульских переговоров и сказал "к чёрту соглашения, давайте просто воевать — мы вам всё дадим".
При этом "с той стороны" на войну сразу пришёл не только их "официальный" ВПК, но и передовые хайтек-компании: тот же Палантир нарисовался в Киеве тоже уже весной. Более того: и их собственный бизнес, а равно и сектор НКО, тоже явился на войну — и стал главным донором самых передовых гражданских технологий для армии, в том числе и технологий организационных. Мадяр в ходе своего недавнего европейского вояжа рассказывал, что в его лучших подразделениях БЛА порядка 95% состава — это гражданские люди, которые до 22го года не имели не только военного образования, но также и почти никакого военного опыта. И именно гражданские — из бизнеса и из некоммерческого сектора — стали главными драйверами технологической модернизации украинской армии.
У нас же деревня Алабино в 22-м поехала на войну одна. Деревня Сколково в тот момент на войну вообще не явилась.
Продолжая.
Наша команда обладала в 22-м некоторым преимуществом; если угодно, форой. Главное даже не то, что было, а то, чего не было: не было иллюзий. Доклад КЦПН 2019 года, написанный Любимовым и Мурзом, с высокой точностью спрогнозировал проблемы, с которыми столкнутся ВС РФ в случае прихода на Донбасс. Более того: КЦПН начал обучать операторов дронов ещё в 2017 году, раньше, чем это начали делать волонтёры противника. Но "мощность" небольшой волонтёрской структуры, живущей на народные деньги, была крайне недостаточной ни для самостоятельного масштабирования этого опыта, ни для его интеграции в официальные ВС, которые, понятное дело, рассматривали такие команды как фриков, которые в лучшем случае "собирают колоски за комбайном", а в худшем просто путаются под ногами.
В 22-м мы приложили максимум усилий для того, чтобы вовлечь в работу по технологической модернизации нашей армии как можно больше самых разных слоёв и групп из той среды, которая на вражеском языке называется "креативным классом". Тогда мы провели сначала первую Дронницу для операторов, инструкторов и производителей, потом, уже осенью, IT-Дронницу для разработчиков военного софта, потом IQ-Дронницу для штабных офицеров по технологиям мышления на войне, и, наконец, Медиа-Дронницу в том же Сколково для блогеров, волонтёров, журналистов и широкого круга общественных структур. Мы понимали, что здесь эффект может дать только массовость, но массовость, если угодно, специализированная: в войне технологий побеждают те, у кого больше навыков и фантазии к их применению, и, к счастью, кроме уехавших в сторону Верхнего Ларса релокантов, остальные так или иначе услышали призыв.
Тогда же, зимой 22-23, мы активно внедряли в язык словосочетание "народный ВПК" (изначально "параллельный ВПК", но потом понятие "народный" показалось удачнее). Начиналось это с самых простых вещей — масксети (именно тогда родилась, в частности, Донская сеть, а потом и большое сообщество "Народная сеть"), оружейный тюнинг, полезны мелочи, тактическая медицина и т.д. Дронница-23 стала масштабной выставкой достижений этого самого "народного ВПК". Именно тогда мы сформулировали для сообщества две задачи: первая — это переход от обучения и снабжения к разворачиванию собственных производств, и вторая — переход от обучения операторов дронов к разработке организационных форм и структур: в частности, именно там увидела свет концепция "беспилотной бригады" Аркадьича, светлая ему память. И, наконец, именно после Дронницы-23 Никитин написал письмо Верховному, по итогам которого в Новгороде возник "Ушкуйник", а также начала работу команда разработчиков оптоволоконного дрона, который потом стал называться КВН. Ну и, да, 23-й был годом провала украинского "контрнаступа", а мы с Любимовым по его итогам тогда получили первые награды за организацию массовой подготовки операторов БЛА.
В 24-м все эти начинания принесли свои плоды. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря долгожданной смене руководства МО. Оформилось несколько крупных гражданских (но уже окологосударственных) структур, занимающихся интеграцией в войска передовых технологий, с упором на беспилотие, связь и софт. Их все знают, они есть в "пакетах с пакетами" от ЕС и в публикациях вражеских сливных бачков, нет смысла дополнительно перечислять. Но важно всё-таки отметить огромную координирующую роль НТИ, как команды идеологов гражданско-военной интеграции. Архипелаг-24 стал испытательным полигоном, а Дронница-24 — "проектным штабом" для некоторых важных решений в этой сфере. Основной вызов того периода — как перепрыгнуть от кустарных, гаражных и малосерийных решений к массовому производству и внедрению. И здесь нельзя не сказать добрых слов в адрес, между прочим, МО — система, что называется, "начала поворачиваться лицом" к странным людям с летающими железками, приходящим в кабинеты на Фрунзенской.
И вот он 25-й. Here we are. И здесь важно правильно диагностировать, в каком состоянии находится тема "гражданско-военной интеграции" здесь и сейчас.
Продолжая.
Что можно констатировать сейчас, спустя три с половиной года после начала СВО?
1. Межвременье, наставшее после "Холодной войны", закончилось, сменившись новой реальностью, которую следовало бы назвать "Горячий мир". Это мир, в котором войны не объявляются, но активно ведутся; причём никакими не прокси, а государствами. Надо ясно отдавать себе отчёт: для остального мира факт, что Россия начала СВО и не только не растоптана "цивилизованным миром" за "агрессию", но и смогла, подняв на тихий бунт против глобалистского миропорядка целую группу больших стран, избежать изоляции и роли изгоя — сигнал к тому, что воевать "без разрешения гегемона" теперь _можно_. А на шарике, выражаясь аккуратно, много у кого есть вопросы к соседям, в том числе и территориальные.
2. Война есть проекция социального уклада — условно говоря, армия отражает общество, пусть и в своеобразном преломлении. Массовые индустриальные общества первой половины ХХ века — Первая и Вторая мировые войны больших рабоче-крестьянских армий. Как воюет современное нам общество? Так же, как и живёт: с гаджетом наперевес, непрерывной самопрезентацией и коммуникацией в блогах, соцсетях и мессенджерах, в потребительском ажиотаже за высокотехнологичными ништяками и непрерывным изобретением/проживанием сюжетов для роликов и сторис. Потомки будут делать круглые глаза: человек, которого убивают, последним предсмертным жестом включает камеру, чтобы запечатлеть этот момент для ролика, который соберёт кучу лайков и репостов. И, да, в технологическом измерении ключевым фактором превосходства становится воображение, с помощью которого гражданские гаджеты и IT-решения применяются для решения боевых задач. Не случайно на четвёртый год нашей войны до сих пор главный тактический разведчик у обеих армий — это по-прежнему гражданский Мавик.
3. Решает не само по себе технологическое превосходство, а в сочетании со скоростью и стоимостью работы производственных мощностей. Это одна из главных причин, почему Запад и в военном отношении больше не гегемон: оказалось, что, перенеся "мировую фабрику" в страны с дешёвой рабочей силой, они тем самым перенесли туда же и гравитационный центр силы военной. И сейчас от Пекина судьба любой войны (в том числе и нашей) зависит как минимум не меньше, чем от Вашингтона.
4. Вместо "высоких технологий" хитом этой войны стали технологии "низкие", или, в нашей терминологии, "орочьи" — не буду повторять банальности про Г&П, этот феномен требует более серьёзного осмысления. Компоненты, покупаемые на общедоступных потребительских платформах как гражданские изделия; производства, организованные по позднесредневековому принципу "распределённой сетевой мануфактуры"; организационные модели, напрямую заимствуемые из практики соцсетей (от "боевых" чатов подразделений до создаваемых на лету виртуальных "групп" для проведения операций) и т.д. Радикальная экономика такой войны — разница до сотни раз между ценой изделия и размером ущерба противнику, причиняемого им. И вездесущий "сетевой эффект" в виде "вирусного" масштабирования успешных решений по подражательному принципу, заимствованному напрямую из блогосферы.
Завершая.
5. Необходимо констатировать, что для достижения решительного результата, превосходства в такой войне важно уметь мобилизовывать не "всё" общество, не "вообще всех", а в первую очередь наиболее "движняковую" его часть — тех самых стартаперов-хипстеров-айтишников-геймеров-разработчиков, способных при должной (само)организации быстро создавать новые решения в войне технологий. В предыдущую, "глобалистскую" эпоху это была наименее "патриотичная" и, наоборот, наиболее "глобализированная" часть любого общества — и во многом она таковой и осталась. Но ирония ситуации в том, что личные "политические" взгляды индивида в таких войнах вообще не играют никакой роли — тот же Дуров, которому можно смело давать Героя России (ибо что бы мы делали вообще без Телеграма?), кто угодно, но только не зет-патриот, однако сама реальность заставила его в известной ситуации сказать "я русский". Есть старая фраза "у революций нет балконов" — у войн их тем более нет: российские релоканты в Баку тоже думали, что им удалось "сбежать", но жизнь доказала обратное.
6. До кучи, в технологиях больше нельзя делить решения на "военные" и "гражданские" — у любого "гражданского" решения можно найти военное применение, то же верно и в обратную сторону. А учитывая то, как многое может изменить на поле боя даже одна успешно найденная и быстро масштабированная технология, такие решения приобретают особую ценность. Именно поэтому и наша команда, и НТИ всегда защищали тезис, что для того, чтобы лидировать в военном беспилотии, необходимо иметь максимально сильные позиции в беспилотии гражданском. Сейчас это уже общее место: ты сделал хороший агродрон — у тебя есть средство логистики переднего края и бомбер; ты сделал аэротакси — у тебя есть средство эвакуации раненых; ты сделал дрон-метеостанцию — ты избавил командира артиллерийского орудия от необходимости ждать из штаба "метеосреднюю"; ты сделал дальнолёт для борьбы с лесными пожарами — ты сделал разведчик оперативного радиуса; далее везде.
7. Это значит, что разработчикам технологий — всем, не только тем, кто мобилизован (или, как мы, самомобилизован) на войну, необходимо уметь думать о себе как о военных, не дожидаясь того, пока за них это сделают солдаты НАТО (ну или родные ВС). Вы, дорогие, уже воюете; даже если всё, чего вы хотели, когда в это ввязывались — это упаковать стартап, привлечь венчурные деньги и продать это всё добро какому-нибудь "ангелу", чтобы потом дауншифтить на каких-нибудь тёплых островах. Всё, финита. Будущее уже наступило. И наиболее разумное, что можно сделать в этой ситуации — принять его таким, каким оно есть, и постараться найти своё место в (ст)рою.
И всё время помнить главную особенность мира сетей: любой узел по отдельности — уязвим. Узел, начинающий представлять повышенную ценность — обладает пропорционально повышенной уязвимостью. Единственный способ выжить (а умение выживать в "горячем мире" первичнее и важнее умения побеждать) — это максимально распространять свою ценность по всем тем узлам сети, с которыми у вас есть надёжная связь, резервируя уникальный код в бесконечном количестве копий. Сеть же уничтожить гораздо труднее, чем узел — чисто теоретически, почти невозможно. В столкновении сетей выигрывает та из них, где внутренний обмен быстрее, связность выше, а качество осмысленного реагирования и отработки ошибок изоморфна совокупной вычислительной мощности сети — если это сеть из людей, то силе, качеству и скорости коллективного разума.
"Но у птичек всё то же самое".




 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием